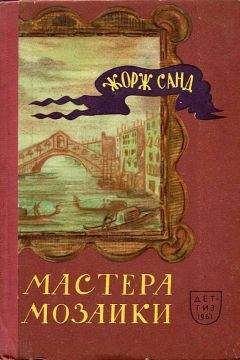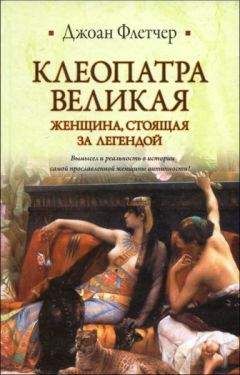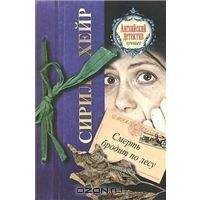Юргис Кунчинас - Via Baltica (сборник)
Повторяю: у каждого есть свой нулевой цикл, принадлежащий только ему, и от собственной воли зависит – начинать строительство или бросить. В этом цикле, с которого начинаются остальные работы, есть всего понемногу: медные и железные руды, золотоносный песок, человечьи, собачьи и конские кости, разнообразный хлам, остатки того, о чем мы уже никогда ничего не узнаем. Можно наткнуться на целую бомбу или артиллерийский снаряд. Тогда придется звать пионеров. Что касается прочих находок, тут нужны археологи. Хотя они особенно нежелательны: глядят на живых свысока, мешают работать, спорят о каждом обнаруженном черепке, роются-роются, а потом кричат, что ничего существенного не нашли. Ты и сам в этой яме можешь ничего не найти, так обычно и получается. Потому что все эти норы, подземные кротовые тропы, корни, валуны, суглинок, песок, становящийся то темнее, то светлее, – они-то и есть среда, в которой не спеша протекает скудная жизнь. Но если найдешь сапропель, уже можно на что-то надеяться. Сапропель – обещанье открытий. Тогда твоя четверть не будет совсем пустой. Будет грязной, кровавой, зловонной, но не пустой. В ней обретут права на существование и бескрылая галька, и мертвый жук, и странная деревяшка. Однако, наткнувшись на более крупную вещь, даже на полуистлевший ларь, не спеши восторгаться и умиляться. Пуговица или патронная гильза могут вдруг оказаться стократ важнее негодных денег или тусклых висюлек, которые у тебя все равно отнимут, поскольку языки у людей такие же длинные, как четверть века назад. Во всяком случае, этого века, который не только благоухает как свежий мед, но и воняет сильней кошачьего дерьма.
Но похоже, что самое время начать, ведь новых друзей не найдешь, а старые почему-то все чаще берут и выкидывают последний фортель: без всякого предупреждения отправляются в мир иной, куда много лет назад отправились Повилас, кельнер и филолог Шарль, стихотворица Мика, саксофонист Генрик и прочие, здесь отдельно не упомянутые. Все порознь, все по отдельности. Наверное, скопом было бы лучше? Хоть словцом перекинуться, высмолить самокрутку. Да нет. Это штука суровая и необратимая. Никто уже не придет, не постучится, не скажет: ах, прости, это я пошутил не совсем удачно! И не узнаешь, когда подобную шутку выкинешь сам, потому и боязно рассказывать о других, не сумев натянуть их новую шкуру. С чувством, что не успеешь объять весь этот нулевой цикл, – а сколько всего случилось еще до него! – маешься и прикидываешь, с какого бока тут лучше зайти, чтобы скорей пробраться на двадцать пять лет назад и вытащить все свои захоронки на божий свет, полный пахучей пыльцы и золотистой пыли. В общем, некогда размышлять об этом.
Летним вечером на собственном автомобиле ко мне прикатил один прославленный режиссер, обривший голову наголо, но мало смахивающий на бандита. Сто девяносто сантиметров, взгляд утомленного сокола, и такие бывают. Попыхтел сигаретой, почмокал кофейной гущей и говорит: будем делать кино. Они все делают, иначе не могут. Театр из него, понимаешь, уже высосал последние соки, необходимо переливание крови. Он говорил попроще, это я пересаливаю. Я слушал и знал: ведь не выгорит! Но слушал и смирно кивал: как же, конечно, понятно, всенепременно, о чем, когда? Бритый не гнался за славой, он был вполне обеспечен по этой части, почти обречен на творческие успехи и не любил об этом распространяться. Мы были знакомы со времени того нулевого цикла, когда нынешний гений в шинели рядового Советской армии (малиновый кант!) в Старом городе рыл траншею под кабель и часто заваливался голодный в мастерскую одного реставратора, мыслящего излишне национально, где получал ковшик водки и горячих сосисок с едкой горчицей, а сам выглядел еще худей, чем теперь. Он и тогда был не особенно разговорчив. Правда, это тянулось недолго: кончилось время проклятой службы, дали труппу, с каждым годом все громче звучало имя, и он до того прославился, что потенциальные конкуренты поняли: нечего задницу надрывать, его не догонишь, лучше вести свою исконную борозду и беседовать с начитанными матронами из приятных газет.
– Кино собираюсь делать, зараза, – бросил бритоголовый, не разводя зубные мосты, золотых тогда еще не было, во всяком случае, спереди. – Знаешь что, садимся и едем. Прямо сейчас.
– Куда? – я попытался проявить интерес, хотя мне было до фени.
Мимо кладбища Россу [11] мы свернули на Черный тракт. Я знал давно: Черный тракт ведет в Велючонис, там колония для малолеток, которая, ясное дело, называется по-другому. Мой двоюродный брат, нигилист и боксер, преподавал там когда-то физику. Он говорил: эти компрачикосы боятся меня и физрука. Никого больше. Но мы поехали вбок – по улице Радости. Тут радовались деревья, кусты, огороды, новые и неновые стены, открывался роскошный вид на долину, за которой краснел знаменитый откос и темнели уже другие леса – угрюмые, черно-зеленые или даже синие. Лет пятнадцать назад я каждый день проезжал по улице Радости в Психоневрологическую больницу, куда удалось пристроиться санитаром, за меня поручился известный театральный критик, который там тоже эпизодически подрабатывал и даже ставил короткий спектакль – в нем принимали участие и персонал, и пациенты. Я улыбнулся: вот так моя жизнь соприкасается с театром! Я недолго тогда прослужил санитаром: доктора и обслуга доставали хуже больных. В те несколько месяцев, проезжая на 34-м автобусе по улице Радости, я временами думал: вот-вот попаду на улицу Горечи и Отчаяния, на территорию абсолютной и относительной глупости, где придется утихомиривать оскорбленных, носить тарелки лежачим, а после обеда вести в вольер на прогулку тех, в ком еще теплится странный, для нас непонятный разум.
– Улица Радости! – я усмехнулся кисло и громко.
– Чего ты скалишься? – глянул в мою сторону гений, а меня неожиданно озарило: а вдруг это будет фильм о безумцах? О других сумасшедших, конечно, вовсе не обязательны смирительные рубашки и раздвоенные языки. Нет, сумасшедших много, всех не втиснешь даже в большое кино.
В город мы возвращались уже по другой дороге – мимо Источника, который, подобно какому-то Лурду, примагничивал толпы людей. Режиссер пояснил: эта вода не портится, не скисает, утоляет не только простую, но и духовную жажду. Там стояли машины, горели окна маленького киоска – торговцы уже учуяли прибыль.
Мы вышли, постояли в недлинной очереди и отведали чистой и вкусной воды. Рядом была доска с рукописными объявлениями: люди предлагали друг другу менять квартиры, что-то там покупать, продавать, приглашали жениться, заняться массажем и просто жить вместе. Возле заветной будки тоже переминалась смущенная очередь, тогда я свернул в соснячок, но и тут были сплошные машины. Наконец я нашел укромное место и смог облегчиться, вернуть земле эту благую влагу. Оправившись, я огляделся и в двух шагах от себя увидал настоящего монстра: почти насквозь проржавевший длинный автобус без единого колеса, железный скелет, еще не совсем обглоданный. Ну что же, автобус, равнодушно подумал я и тут разглядел никелированное название – оно сохранилось чудом, никак не иначе Ikarus. Популярный венгерский автобус, знакомый нескольким поколениям. Этот из самых старых, ветеран. Только немного странный. Какой-то непассажирский. Даже по ребрам видно: непассажирский. Автобус тоже принадлежал моему нулевому циклу, и я из любопытства подошел поближе. Какие-то стенки, перегородки, щиты, остатки сидений. Ясно, непассажирский. Призрак. Не хватает скелетов – водителя и команды. И вдруг меня осенило: ведь это автобус Rontgenа ! Передвижная Rontgenовская установка! Как же я сразу не понял! Даже жарко стало: еще один ископаемый динозавр. Один из тех, что носились по всей Литве и тщательно проверяли, кто из советских граждан еще смеет болеть туберкулезом. ТВС или, попросту говоря, чахоткой. Ну-ка, в очередь, заходите по одному. Раздевайтесь до пояса. Становитесь вот тут. Так, готово. Следующий, следующий, следующий… Школы, заводы, рабочие коллективы – все подряд. Вдруг в ком-то завелся малюсенький туберкулезный очаг?
Я вернулся к источнику, подозвал режиссера: пошли, что покажу! Он только пожал плечами и послушно пошел, ведь мы никуда не спешили. Мы тихо подкрались к моей находке. Уже темнело, но режиссер его сразу признал: Rontgenl Как же, припоминаю! Он заметно разволновался, хотя никому никогда не признался бы в этом. Нагнулся и пролез внутрь чудовища, чертыхаясь: такая темень, совсем ничего не видно. А что он там собирался увидеть? Может быть, на экране густеющей ночи он мечтал разглядеть собственную грудную клетку и легкие, прокуренные на нескончаемых репетициях? Кто его знает. Я ждал его рядом с Икаром, курил, и довольно долго.