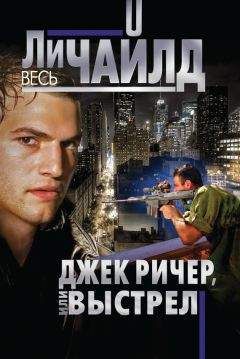Джонатан Литэм - Сады диссидентов
В Садах уже было холодно.
И холод обещал лишь усилиться.
Никто из здешних обитателей еще не знал, что американский коммунизм больше не проснется после зимы этого года. Ну какая же красота! Ведь Розу – после всего, что она видела и что сделала, – вышвырнули из партии за считанные месяцы до того, как Хрущев, выступая на очередном съезде в СССР, открыто заговорил о сталинских чистках. За считанные месяцы до того, как слухи о его докладе перелетели через Атлантический океан и обожгли уши преданных идеям коммунизма американских простофиль. А затем появился и сам его доклад – его перевод напечатали в “Нью-Йорк таймс”. Как приятно было бы посмотреть на подлые глаза ее трезвомыслящих и надменных палачей, ждавших сейчас на кухне ее возвращения, в тот день! Но нет – расправа над ней стала последним славным деянием (по крайней мере, последним, какое Розе пришлось лицезреть) этих высокомерных негодующих призраков – мертвецов, которые еще сами не знали, что умерли.
В тот вечер этого еще не знал ни один из них.
Сол Иглин снова принялся вести светскую болтовню, чуть ли не флиртуя с ней – теперь-то, когда они остались наедине.
– И как же ты познакомилась с этим своим полицейским, а, Роза?
– В отличие от тех, кто живет исключительно в своей воображаемой Москве, я горжусь тем, что живу в районе, который населяют еще и итальянцы, ирландцы, негры, евреи, а изредка и крестьяне с Украины. Да ты сам разве не из украинцев, Сол?
Он лишь улыбнулся.
– И я не витаю в облаках – я уверенно топчу ногами тротуары Куинса. Мои убеждения вовсе не избавляют меня от ответственности перед бедными и попранными людскими душами, перед теми, кого я вижу на каждом шагу.
– Ты имеешь в виду свои обходы? Как там это называется – “Гражданский патруль”?
– Именно так, Гражданский патруль.
Так, вскользь и с недомолвками, они касались тех фактов, которые Сол Иглин наверняка уже знал по ее партийному досье. Впрочем, существование такого досье Сол упорно отрицал, а Роза никогда не могла бы доказать, но все же верила в него как в некую непреложность – точно так же, как в детстве должна была верить (хотя, вопреки воспитанию, и не верила) в незримого Яхве или в то, что ее собственное имя записано в священной Агаде, запертой в синагоге, в шкафу розового дерева. Из этого-то досье Сол наверняка уже знал, что Роза закрутила роман с чернокожим лейтенантом полиции после того, как втерлась в ряды недавно возникшей организации районных наблюдателей Саннисайд-Гарденз и назначила саму себя посредником между этой организацией и местным полицейским участком. Быть может, Сол воображал, будто ее участие в обходах Гражданского патруля было просто тщательно спланированной уловкой? Хитростью, придуманной затем, чтобы подобраться поближе к женатому мужчину, к которому она давно воспылала вожделением? Да пускай Сол думает что хочет. Нет, до того дня Роза ни разу даже не видела Дугласа Лукинса.
Она снизошла до обороны:
– Это Соседский дозор, Сол: соседи сообща обходят округу, вот и все. Рабочие помогают другим рабочим, чтобы тем не было неуютно возвращаться домой из надземки после ночной смены.
– Когда гражданские лица сбиваются в марширующие общества и перешептываются на перекрестках с людьми в сапогах, то кое-кто из нас невольно вспоминает о коричневорубашечниках.
– Ты, наверное, хочешь спровоцировать меня на какой-нибудь отчаянный поступок или на насилие, а потом написать рапорт о падении моего личного вклада в общее дело? Или, может, ты уже настрочил такой рапорт – и теперь расстроен, потому что я так и не соизволила довести тебя до нервного срыва?
– Да не писал я никакого рапорта!
Он процедил это сквозь зубы, как будто вовсе не он, а она сейчас переступила границы приличия чересчур интимным намеком на его подчинение невидимому лидеру ячейки. В глазах Сола Иглина именно это, а не ночное соприкосновение тел, являлось интимной близостью.
– С теми, внутри, я уже разделалась, – сказала Роза, имея в виду сидевших на кухне – но не только их. “Внутри” относилось и ко всем подразумевавшимся философским учениям и конспиративным теориям, витавшим в воздухе вокруг этих людей и даже вырвавшимся наружу, за дверь, как вырывается жар и чад, когда открываешь печную заслонку. – Уведи их.
– Позволь нам следовать установленной процедуре.
– Да какой еще процедуре? Вот гляжу я на тебя, старина, и вижу то, чего не скажет мне даже зеркало. Я – старуха. И у меня нет времени на всю эту ерунду.
– Роза, ты – красивая женщина в расцвете лет. – Он сказал это каким-то неубедительным тоном. Может быть, он боялся, что кто-то подслушивает его из-за ближайших кустов?
– Не морочь мне голову, я же не идиотка!
– Да ладно тебе, Роза.
– Нет, ну раз мы живем в идиотском мире, то почему бы нам тоже не стать идиотами? И тебе, и мне, и этим идеалистам на моей кухне?
Она приблизилась к нему и обняла его, чувствуя отвращение и к нему, и к себе и желая, чтобы он тоже ощутил ее отвращение, а еще желая доказать, с какой легкостью она по-прежнему может втиснуть свои груди в его ладони. Иглин как следует ее пощупал, а потом спрятал обе руки в карманы пиджака. Быть может, такое действие вполне вписывалось в его определение процедуры.
Все-таки она перехитрила саму себя – хотела большего, чем сознавала. Она взяла Сола за запястья, на сей раз насильно впихнула его прохладные ладони к себе под блузку, дала ему ощутить, что чашечки ее бюстгальтера наполнены до краев. А саму Розу до краев наполнял многогранный цинизм, грозя непоправимо пролиться наружу, словно ртуть из разбитого сосуда. Сол Иглин знал ее лучше всех на свете. Лучше, чем ее черный лейтенант, – хотя она скорее умерла бы, чем призналась в этом Солу. В течение почти десятка лет они с Солом подвергались одним и тем же деформациям, прогибаясь и под партийную линию, и друг под друга. Если бы только ей удалось сломить его послушное непослушание, оторвать от жены – этой кроткой женщины, благородно мирившейся с его приверженностью свободной любви, – то, как знать, Роза, наверное, удачно поработила бы Сола. Они могли бы стать Великой Красной Парочкой и гордо воцариться здесь, в Садах… Но как же эти мечты отдавали конформизмом! До чего все-таки буржуазным было это стремление добиться социального успеха внутри КП!
Так что Розе следовало благодарить судьбу и за Солову жену-прилипалу, и за собственные телесные инстинкты, толкнувшие ее на поиски другого любовника. Солу было не под силу сломить Розу, она оказалась крепче, чем он думал, так же как коммунизм оказался крепче, чем партия, а потому остался неуязвим для всех этих партийных жертвоприношений и самозакланий. Потянувшись к этому невозможному полицейскому, к этому великану и поклоннику Эйзенхауэра, Роза заявила о своем радикализме и о приверженности к гораздо большей свободе в любви, чем та, что была доступна Солу Иглину. В самом ее поведении читалась критика. И все же Роза не испытывала соблазна переводить все это лично для него на язык марксизма: нет уж, слишком поздно. Пожалуй, Роза наконец действительно немного устала от коммунизма. И все равно коммунизм – верность идеям, которые, несмотря на все разрушения, впервые просветили людей и раскололи мир надвое, а потом снова скрепили его и тем самым открыли Розе глаза на ее собственное призвание и предназначение, – был единственным содержанием ее жизни. Не считая, конечно, ведения бухгалтерских счетов на консервной фабрике. А еще – и это совпадение не случайно – он являлся единственной надеждой и оплотом рода человеческого.
– Мне холодно, – сказала Роза. – Пойдем внутрь.
– Врешь. – Сол уже изрядно возбудился и слегка сгорбился: Роза хорошо знала эти признаки. – Тебе не холодно, а жарко! Ты так и пылаешь, как печеная картошка.
– Не стану спорить – мир как раз и стоит на таких противоречиях. Вполне возможно, что я одновременно мерзну, пылаю и в придачу вру. Но ты-то врешь еще больше, Сол.
Глава 2
Серый Гусь
Здравствуйте, мальчики и девочки, вас приветствует Бёрл Айвз! Я хочу спеть вам несколько песен. Вот песенка про Серого Гуся – самого странного гуся на свете. В тот год, когда отец Мирьям ушел из семьи, девочке подарили музыкальный альбом. Как-то утром в воскресенье, ой-ой-ой, / Папа вышел на охоту, ой-ой-ой. Мирьям не разрешалось самой включать родительский проигрыватель, встроенный в длинный шкаф розового дерева. Этот проигрыватель, внутри которого помещалось еще и радио, был самым фантастическим предметом обстановки в их жизни. Купили его в рассрочку в магазине электротоваров “Браунз” на Гринпойнт-авеню, и вокруг него вечно велись споры и разглагольствования на тему “рабской зависимости от коммерции”, в которую, оказывается, впала семья. Именно так выразился однажды отец Мирьям, когда на него напал очередной приступ педантизма и вычурного витийства. Серый гусь ему попался, ой-ой-ой, / А потом его щипали, ой-ой-ой. Мирьям приходилось всякий раз просить мать поставить ей Бёрла Айвза. Роза обращалась с пластинкой, которую она называла не иначе как “альбом”, тем самым способом, который Мирьям связывала с иудейскими ритуальными действиями, столь ненавистными для Розы: например, когда из шкафа извлекали свитки Торы или когда на Песах дедушка Мирьям бережно заворачивал в салфетку афикоман. На самом деле всякий раз, когда Мирьям видела, как евреи берут в руки важные бумаги или переворачивают страницы книги, она замечала в их жестах смирение, благодарность, благородство и тайную дерзость – причем все это одновременно. Роза учила ее обращаться с долгоиграющими пластинками, такими, например, как с записями Бёрла Айвза или со своими любимыми симфониями Бетховена, и показывала, как делать это правильно (хотя самой Мирьям это пока не позволялось): средними пальцами нужно держать пластинку в том месте, где наклейка, а большим придерживать за край. Когда пластинку извлекали из шуршащего бумажного конверта или вставляли обратно, нельзя было даже дунуть на блестящую черную поверхность, хранившую в своих бороздках священную музыку. И конверт с пластинкой внутри должен был плавно и гладко войти в картонный футляр. Достаточно одного неосторожного взгляда – и на пластинке останутся царапины. Видит бог, в этом доме все ломалось и портилось от неосторожных взглядов.