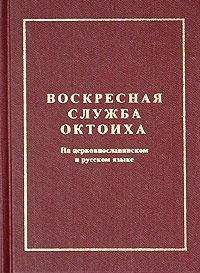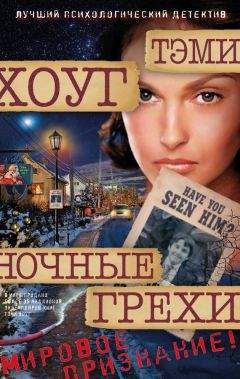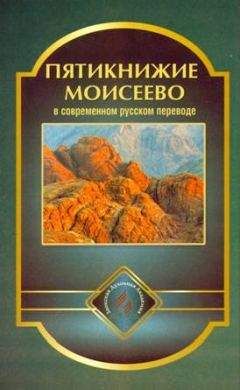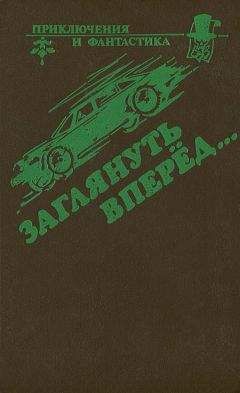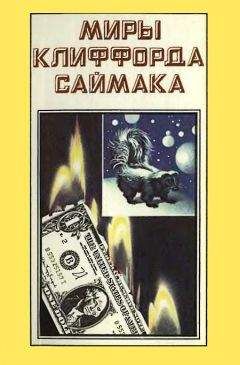Амели Нотомб - Счастливая ностальгия. Петронилла (сборник)
Я собираю все свое мужество:
– Я тоже ваша дочь, Нисиё-сан. И я приехала из Европы, чтобы повидаться с вами.
Происходит чудо. Нисиё-сан разражается рыданиями и обнимает меня. Я по-прежнему сижу на стуле. Неподходящая поза. Тогда я встаю и изо всех сил заключаю старушку в свои объятия.
Так мы стоим бесконечно долго. Я плачу так, как хотела бы плакать в пятилетнем возрасте, когда меня вырвали из ее объятий. Редко случается испытывать столь сильное чувство. Я склоняю голову к седым волосам этой, сыгравшей в моей жизни такую важную роль женщины, – и происходит нечто чудовищное: от рыданий содержимое моего носа изливается на череп моей святой матушки. В ужасе, что она может это заметить, я глажу ладонью ее волосы, чтобы стереть с них следы моего преступления. В Японии столь интимный жест воспринимается как безумная грубость, но Нисиё-сан принимает его, потому что она меня любит.
Таков незыблемый закон: если нам дано испытать сильное и благородное чувство, тотчас какой-нибудь гротескный инцидент все испортит.
Объятия разжимаются. Потрясенная, я падаю на стул. Нисиё-сан по-прежнему отказывается присесть – конечно, для того, чтобы ее лицо оставалось на уровне моего.
– Давно вы здесь живете?
– Да, с тех пор, как землетрясение девяносто пятого года разрушило мой дом.
– А в Кобе были отголоски одиннадцатого марта две тысячи одиннадцатого?
– Ты о чем?
– Вы же знаете: Фукусима.
– Я тебя не понимаю.
Я оборачиваюсь к двадцатидвухлетнему переводчику из Токио и прошу его помочь мне. Он спокойно объясняет моей няне, что я намекаю на крупное землетрясение одиннадцатого марта две тысячи одиннадцатого года.
– Что это? – спрашивает она.
Мы с молодым человеком быстро переглядываемся. В глазах Юмето я читаю: говорить ей? Я отрицательно качаю головой.
Значит, несмотря на наличие телевизора, прошлогодняя катастрофа не коснулась Нисиё-сан. Старость уберегла ее. Я не считаю нужным рассказывать ей об этом. Раз ее сознание не зафиксировало трагедии, значит его способность страдать исчерпана. К чему навязывать Фукусиму женщине, пережившей бомбардировки Второй мировой войны?
Нисиё-сан расспрашивает меня о родителях, брате, сестре и встречает мои ответы короткими восклицаниями, свидетельствующими о том, как жадно она ловит каждое мое слово.
– Помните, когда я была маленькая, вы позволяли мне есть из вашей тарелки, – говорю я.
В ответ она машет рукой. Не знаю, означает это, что она не помнит или что о столь естественных вещах и говорить не стоит.
По какому признаку можно понять, что у старого человека с головой не все в порядке? Происходит какой-то сбой. Не она чувствует себя растерянной перед нами. Это мы растеряны. Она обладает основополагающим умением – искусством больше не воспринимать то, чему противится. Хотелось бы и нам всем быть способными на такое чудо.
А что, если рассказать ей о моих книгах? Ведь по телефону я сообщила ей, что стала писательницей. Внутренний голос подсказал мне не затрагивать эту тему. Я не пытаюсь анализировать, я подчиняюсь.
Пора уходить. Произношу дежурную фразу:
– Должно быть, вы прилично устали.
Нисиё-сан собирается с силами. Она вежливо прощается с членами съемочной группы. Все выходят, оставив меня в квартире наедине с решительной женщиной. Тогда она судорожно хватает меня за запястья, потом обнимает, снова хватает за руки. Ее трагические глаза говорят на нестерпимом языке.
Час назад я считала, что встречи после долгой разлуки следовало бы запретить. Теперь я думаю, что и расставания тоже. Я только что с интервалом в час нарушила оба этих взаимодополняющих табу. Единственное, что меня извиняет, – это то, что я недооценила их трагическую суть.
Мы обе дрожим, как реактор. Нисиё-сан говорит, что ей стыдно, я говорю, что мне стыдно. Ловлю себя на мысли, что хотела бы оказаться в другом месте. Слишком много страдания. Мне бы хотелось, чтобы все скорее закончилось. В пять лет я была сильнее.
В самый последний раз я обнимаю эту святую женщину. Она издает стон, и я чувствую себя чудовищем. Я открываю дверь. Я оборачиваюсь. Я смотрю на нее. Она смотрит на меня. Я закрываю за собой дверь.
На лестничной площадке начинается другой мир. Спотыкаясь, бреду к Юмето. Кажется, он понимает, что со мной.
– Как она вам? – спрашиваю я.
– Это очень пожилой человек, – сдержанно отвечает переводчик.
– Что мне делать?
– Вы сделали то, что должны были. Она была рада вас видеть.
В машине замечаю, что плачу не только я. Девушка-режиссер всхлипывает, у оператора глаза на мокром месте. У всех нас есть старая мать, не обязательно родная по крови, но которую мы почитаем с незапамятных времен.
В такси гробовое молчание. Спустя десять минут я заявляю:
– На этот раз мне удалось поплакать. Так было надо.
– Ваши слезы были нужны Нисиё-сан, – говорит мне режиссер.
Спасибо ей! Ее слова спасают меня. В груди вдруг перестает теснить. Я наконец могу дышать.
Во мне бурлит радость чудом спасшегося человека. Я выдержала испытание. Может так случиться, что самая глубинная наша потребность представляет одновременно и самую жестокую пытку. Я осознаю, что случилось чудо: мы с Нисиё-сан повидались, я сказала ей то, что следовало сказать, я позволила искре необычайной любви пробежать между нами. И мы выжили.
Кобе за окном автомобиля неожиданно представляется мне дивным городом. Юмето спрашивает, все ли в порядке. Я говорю «да». Теперь он обращается ко мне по-японски. Хотя, конечно, заметил, что с Нисиё-сан я делала по три ошибки в каждой фразе. Но, по-моему, он думает, что я поистине дитя этой женщины.
* * *В отеле, созерцая Кобе, пью пиво.
В последний раз я видела Нисиё-сан тридцать первого декабря восемьдесят девятого года. Мне было двадцать два года, а ей – пятьдесят шесть. Помнится, она непрестанно смеялась. Мы с ней пошли встречать Новый год и звонить в храмовые колокола. Расстались после полуночи, без слез. Тогда я видела Нисиё-сан впервые после нашего бесчеловечного прощания, когда мне было пять лет. Я была сильно взволнована, однако сердце не разрывалось на части, как нынче вечером.
В свои пятьдесят шесть Нисиё-сан казалась мне молодой и жизнерадостной. Мы прогулялись в Киото, где она чувствовала себя как дома. За время нашей разлуки произошло столько бедствий: землетрясение в Кобе разрушило дом, дочери покинули ее. Проклинаю судьбу за такую жестокость.
Представляю, как я бы уговаривала Нисиё-сан приехать в Европу и жить со мной. Она с полным основанием решила бы, что я дура. В восемьдесят девятом году я по телефону предложила ей съездить в Токио. Она повторила «Токио?» таким тоном, как будто я звала ее прогуляться на Уран. Она никогда не бывала дальше Киото, который считала краем света. Нисиё-сан никогда не покидала региона Кансай и никуда не хотела уехать. Слышанные ею рассказы об остальном мире только утвердили ее в этом нежелании.
«А что, если тебе здесь поселиться?» – спросила я себя. В восемьдесят девятом я как раз сделала такую попытку. И никогда не сожалела об этом опыте, хотя в конце концов поняла, что моя жизнь – в другом месте.
Мое существование изобилует подобными историями. Я уж не говорю о количестве болезненных расставаний, которые мне довелось пережить. Но разлука с Нисиё-сан навеки сохранит пальму первенства по степени отчаяния, потому что она была первой и потому что Нисиё-сан была моей матерью.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что моя родная мать не была хорошей матерью. Это неверно. Та, которую я зову мамой, – исключительная мать, я знаю, как мне повезло, что я ее дочь. Но сердце многогранно, и так же, как можно влюбляться не один раз, можно отождествлять с идеальной матерью не только одну женщину. Это залог большего волнения, большей привязанности и большего страдания.
Укладываясь в постель, я подумала, что по сравнению с первым днем продолжение путешествия в Японию будет приятным развлечением.
* * *Не следует искать логики в съемках документального кино. Назавтра, тридцатого марта, мы возвращаемся в Сюкугаву с целью посещения детского сада, куда я ходила в семидесятом – семьдесят первом годах.
Месяц назад съемочная группа спросила у меня название учреждения.
«Он называется йошин», – ответила я.
Что означало, что детский сад называется «детский сад». Для облегчения поисков я добавила, что он располагался примерно в пятистах метрах от моего тогдашнего дома.
По пути режиссер сообщает мне, что на самом деле это «Мария Йошин» – детский сад Пресвятой Девы Марии. Я изумлена.
– То есть, сама того не зная, я посещала католическое заведение?
– Мы нашли фотографии воспитательниц. Они одеты как монахини. Вы что, не замечали?
– Помнится, они были одеты как медсестры. Я никогда не видела монахинь.
– Ваши родители стремились к тому, чтобы вы получили католическое воспитание?