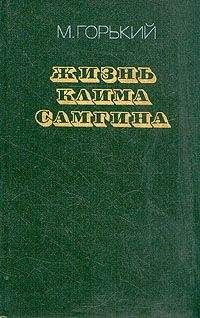Колум Маккэнн - ТрансАтлантика
– С ветчиной, – торжествующе объявляет она, ставя поднос перед Брауном. – Я специально для вас сделала.
– Благодарю вас, барышня.
Она уходит из ресторана, машет через плечо.
– Это же дочка репортерши?
– Совершенно верно.
– Они чуток того, а? – замечает Алкок, натягивая летную куртку, через окно созерцая туман.
Сильный ветер неверными порывами налетает с запада. Авиаторы уже опаздывают на двенадцать часов, но минута настала – туман рассеялся, и долгосрочные прогнозы сулят добрую погоду. Безоблачно. Небо над головою точно написали маслом. Первоначальная скорость ветра высока, но, пожалуй, поуспокоится узлов до двадцати. Потом выйдет славная луна. Под недружное «ура» они забираются в кабину, пристегивают ремни, в который раз проверяют приборы. Краткий салют сигнальщика. Контакт! Алкок дергает рычаг, запускает оба двигателя на максимальной мощности. Машет – велит убрать деревянные башмаки из-под шасси. Механик наклоняется, ныряет под крыло, зажимает башмаки под мышками, выкидывает, отступив. Задирает руки. Двигатели фыркают дымом. Крутятся пропеллеры. «Вими» уставила нос по ветру. Слегка под углом. Вверх по склону. Ну давай, поехали. Дыхание греющегося масла. Скорость, движение. Невероятный рев. Вдалеке маячат сосны. С дальнего края луга дразнит сточная канава. Оба молчат. Никаких «боже правый». Никаких «выше нос, дружище». Они ковыляют вперед, втискиваются в ветер. Давай, давай. Под ними катит махина аэроплана. Как-то нехорошо. Медленно. Вверх. Тяжеловата сегодня егоза. Столько бензина тащит. Сто ярдов, сто двадцать, сто семьдесят. Слишком медленно. Будто сквозь студень ползешь. Теснота кабины. Под коленками пот. Двигатели взревывают. Гнется конец крыла. Трава стелется, рвется. Аэроплан подскакивает. Двести пятьдесят. Слегка приподымается и опускается со вздохом, полосуя землю. Боже правый, Джеки, поднимай ее уже. Край луга окаймляют темные сосны, они все ближе, ближе, еще ближе. Сколько народу вот так погибло? Тормози, Джеки. Поворачивай. Отбой. Скорей. Триста ярдов. Иисусе боже милосердный. Порыв ветра задирает левое крыло, и их слегка кренит вправо. А потом – вот оно. Холодом разрастается ветер под ложечкой. Взлетаем, Тедди, взлетаем, гляди! Легчайший подъем души на малой высоте, аэроплан в нескольких футах над землей, носом вверх, и ветер свищет в подкосах. Высоки ли сосны? Сколько народу погибло? Сколько нас пало? В уме Браун переводит сосны в шумы. Хлест коры. Путаница стволов. Тра-та-та сучьев. Крушение. Держись, держись. От ужаса сводит горло. Они чуточку привстают над сиденьями. Как будто это уменьшит вес аэроплана. Выше, ну давай же. Небо за деревьями – океанская ширь. Поднимай, Джеки, поднимай ее, бога ради, давай. Вот и деревья. Вот и они. Шарфы взлетают первыми, а затем внизу аплодируют ветви.
– Нервишки-то пощекотало! – орет Ал кок, перекрикивая грохот.
Они целятся прямо в ветер. Задирается нос. Аэроплан замедляется. Мучительный подъем над древесными кронами и низкими крышами. Только бы сейчас не заглохнуть. Еще выше. Затем легкий крен. Полегче, приятель. Разворачивай. Величественный поворот – красота и равновесие, неподражаемая твердость. Держит высоту. Крен сильнее. И наконец ветер позади, нос клюет, и они взаправду взлетели.
Они машут сигнальщику, механикам, метеорологам, немногим прочим из тех, кто подзадержался на аэродроме. Нет ни Эмили Эрлих из «Ивнинг Телеграм», ни Лотти: мать и дочь ушли в гостиницу пораньше. Пропустили взлет. Жалко, думает Браун. Барабанит пальцами по изнанке куртки, где прячется письмо.
Алкок утирает пот со лба, машет своей тени у края суши и на половинной мощности уводит аэроплан в море. Золотая береговая полоса. В гавани Сент-Джонса скачут лодки на волнах. Уточки в мальчишечьей ванне.
Алкок берет примитивный телефон, почти кричит в него:
– Эй, старина.
– Да?
– Извини.
– Не слышу. Что?
– Я тебе не сказал.
– Чего не сказал?
Алкок ухмыляется и глядит на воду. Восемь минут в воздухе, высота тысяча футов, попутный ветер – тридцать пять узлов. Внизу раскачивается залив Непорочного Зачатия. Вода – подвижный серый ковер. Заплаты солнца и бликов.
– Да я, понимаешь, плавать не умею.
От одной мысли о высадке в море Браун на миг теряется: бултыхаешься в воде, цепляешься за деревянный подкос, обнимаешься с бензобаками, а те крутятся. Но ведь Алкок доплыл до берега, когда его сбили над заливом Сувла? Много-много лет назад. Да нет, каких лет? Несколько месяцев. Брауну это странно – так странно, что совсем недавно пуля пробила ему бедро, а сейчас, сегодня, он несет этот железный осколок через Атлантику – к свадьбе, к новому шансу. Странно, что он вообще здесь – на такой высоте, посреди бесконечной серости, в ушах ревут двигатели «Роллс-Ройс», влекут его по воздуху. Алкок не умеет плавать? Врет, конечно? Пожалуй, думает Браун, надо сказать ему правду. Никогда не поздно.
Он наклоняется к микрофону, передумывает.
Ровный подъем. Бок о бок в открытой кабине. Уши обдувает ледяным ветром. Браун отбивает телеграмму на берег: «Порядок, начали».
Телефон – провода, обернутые вокруг шей, чтоб улавливать вибрацию. Наушники они запихали под мягкие шлемы.
Двадцать минут в полете; Алкок лезет пальцами под шлем, выдирает громоздкие наушники, швыряет в синеву Уши натерло, губами складывает он.
Браун показывает ему большой палец. Жаль. Теперь не поговоришь – только записками и знаками; но они давно научились читать друг друга: каждый жест – тоже слово, голоса нет, зато есть тело.
Их шлемы, перчатки, куртки и сапоги до колен – с меховой подкладкой. Плюс комбинезоны «Бёрберри». На любой высоте, даже за косым ветровым стеклом, холод будет адский.
Готовясь к полету, Алкок в Сент-Джонсе три вечера просидел в холодильной кладовой. Как-то раз лег на груду мясных свертков, не смог уснуть. Спустя несколько дней Эмили Эрлих написала в «Ивнинг Телеграм», что от Алкока по-прежнему пахнет свежей говяжьей вырезкой.
Она с дочерью стоит у окна третьего этажа, держась за деревянную раму. Поначалу думают, что померещилось, – птица на переднем плане. Но затем доносится слабый рокот двигателей, и обе понимают, что упустили мгновенье – и фотографий тоже нет, – но в странном ликовании наблюдают издали, через линзу гостиничного окна, как аэроплан исчезает на востоке – серебристый, вовсе не серый. «Это победа человека над войной, триумф упорства над памятью».
Голубое небо однотонно и безоблачно. Эмили нравится хлюп, с которым чернила всасываются в перьевую ручку, шорох, с которым закручивается колпачок. «Двое без посадок летят через Атлантику и несут мешок почты, белый льняной мешочек со 197 письмами, особо проштемпелеванными, и если они долетят, это будет первая воздушная почтовая доставка через Атлантику, из Нового Света в Старый». Мысль сверкает новизной: «Трансатлантическая воздушная почта». Эмили ощупывает фразу, царапает ее на бумаге, снова и снова: «Через Атлантику, транс атлант, трансатлантика». Расстояниям наконец-то переломили хребет.
Внизу – плавучие айсберги. Море взлохматилось. Ясно, что назад дороги нет. Теперь дело только за математикой. Превратить топливо во время и расстояние. Оптимально рассчитать мощность. Вычислить углы, ребра, сектора.
Браун отирает влагу с защитных очков, лезет в деревянный ящик позади головы, достает бутерброды, разворачивает вощенку. Протягивает бутерброд Алкоку – тот не снимает одной руки в перчатке с рычага управления. Для Алкока это один из множества поводов разулыбаться: поразительно, что они жуют бутерброды с маслом и ветчиной, приготовленные девушкой в гостинице Сент-Джонса, до которого тысяча с лишним футов по вертикали. Они далеко улетели, и оттого бутерброд еще вкуснее. Пшеничный хлеб, свежая ветчина, легкая горчица, перемешанная с маслом.
Браун тянется назад за горячей флягой чая, отворачивает крышку, выпускает перышко пара.
Сквозь тела прокатывается рев. Временами они различают в нем музыку – ритм, что пробивает от макушки до пяток через грудь, – но вскоре он теряется, растворяется в чистом шуме. Они прекрасно знают, что в полете могут оглохнуть, этот рев застрянет внутри навеки, поселится в телах, и оба они, точно ходячие граммофоны, будут слышать его, даже если сядут на другом берегу.
Держаться проложенного курса – задача для гения и волшебника. Браун штурманит всеми методами, что есть на свете. На полу в кабине – навигационная машина Бейкера. К боку фюзеляжа пристегнут вычислитель курса и дальности. Указатель сноса укреплен под сиденьем, вместе с ватерпасом – измерять крен. К приборной доске приделан секстант. Три компаса, в темноте будут светиться. Солнце, луна, облако, звезды. Даже если все остальное подведет, останется навигационное счисление пути.