Александра Коутс - Клуб юных вдов
Хватаю с вешалки у двери куртку Ноя, ту, которая все еще хранит его запах, в карманах которой все еще лежат его чеки: холодный чай и шоколадный круассан, «Роллинг стоун» и три батончика «Твикс», которыми он так любил лакомиться по ночам.
– Ты все еще моя дочь, – говорит папа, когда я берусь за ручку. – Знаю, ты считаешь, что теперь это не важно, но ты ошибаешься.
Выжидаю мгновение, прежде чем открыть дверь. В лицо бьет влажный зимний ветер.
– Пока, пап, – выдыхаю я в промозглый холод, и дверь позади меня захлопывается.
Глава третья
Очередь в «Ройял» слишком длинная для воскресенья. Я пробираюсь к двери и пытаюсь поймать взгляд Макса. Он, как всегда, сидит на высоком табурете, бегло просматривает удостоверения личности и собирает пятидолларовые купюры – плату за вход. Длинные седеющие волосы заплетены в косичку.
Я машу ему и хочу проскочить мимо, чтобы не задерживать очередь, но он останавливает меня, чтобы поприветствовать быстрым объятием. Неряшливая рыжая борода колет мне щеку. Он пахнет так же, как когда-то папа: теплом, чем-то очень земным и таинственно-сладким.
– Как дела, Огурчик? – спрашивает он. – Всё в порядке?
Макс единственный, кто еще называет меня Огурчиком – это прозвище дала мне мама, когда я родилась. («Пока ждала тебя, я так много их съела, что не сомневалась – и ты родишься маринованным огурчиком».) Когда-то я ненавидела это прозвище, но сейчас ничего не имею против. Иногда мне кажется: все, что случилось, случилось не со мной и в другой жизни. И мне приятно знать, что я это не придумала.
Я киваю, слегка пожимая плечами, – в последнее время это мое любимое обозначение для: «Ну, ты знаешь. Терпимо».
Макс поворачивается к группе мужчин, похожих на каменщиков: коренастых, мрачных, с головы до ног одетых в «Кархарт». Они неловко роются в бумажниках.
– Твои в задней комнате, – говорит мне Макс, кивая на занавеску из бус в дальнем конце. Толпа, заполонившая бар, раскачивается в такт старомодному блюграссу, что несется с обветшавшей сцены в углу.
– Спасибо, – говорю я и, пробираясь через толпу, здороваюсь с завсегдатаями.
Не знаю, можно ли в семнадцать лет быть «легендарной», но если можно, то я самая легендарная на острове фанатка. Когда мама была жива, мы ходили в «Ройял» практически каждый вечер, чтобы послушать выступления папиных и маминых друзей, тоже бывших хиппи. Мы приходили сразу после ужина – обычно мама готовила вегетарианское, пахнущее тмином рагу, – и рассаживались за столиком в задней части. Столик стоял в полукабинке, и там было очень удобно засыпать уже на втором сете. Сейчас-то я понимаю, что нехорошо укладывать спать шестилетнего ребенка в баре, но тогда я принимала это как должное.
К тому же мне это нравилось. Мне нравилось темное дерево, липкий пол и пластиковые корзинки с арахисом. Мне нравилось смотреть, как танцуют родители: они раскачивались в такт музыке и выглядели ужасно счастливыми. Мне нравилось, что все называют меня по имени, мне нравилось, как все показывали на меня, когда я, скрестив руки на груди, вставала перед сценой и смотрела.
Но больше всего мне нравилась музыка. Неважно, какая. Друзей у родителей было много, и все они в основном исполняли фолк. Однако были еще и потрясающие джазовые группы, они играли песни, которые я обожала, песни Джеймса Брауна, Отиса Реддинга, в общем, всё в таком роде. Эти вечера были моими любимыми: никто не мог усидеть на месте, и родители не обращали внимания, что я не сплю до самых бисов.
Макс вырос вместе с моим отцом в штате Нью-Йорк, в маленьком городке на берегу Гудзона. После окончания школы они сложили вещи в папин фургон и перебрались на остров в поисках «жизни попроще». Пока мне не исполнилось пять, мы жили все вместе. Наша семья, Макс, его постоянно сменяющиеся девицы, а еще Скип и Диана со своей дочерью, Лулой Би. Думаю, это было что-то вроде коммуны. Мы жили у самой реки в старом ветхом доме, когда-то принадлежавшем бабушке Макса, и никто ни за что не платил. Ну, мне так кажется.
Именно Макс отвез моих родителей в больницу в ту ночь, когда я появилась на свет. Якобы он разогнал свой дряхлый «Фольксваген гольф» до ста пятидесяти. Он знает меня дольше, чем кто-либо из знакомых, и ему плевать, что формально я несовершеннолетняя и не могу находиться в баре. У нас с ним договор: пока я не пытаюсь купить выпивку и не вляпываюсь в неприятности, я могу приходить, слушать музыку и есть арахис сколько влезет.
Когда я наконец прохожу сквозь завесу из бус, ребята еще настраивают инструменты. Росс возится с регистрами на своем хаммондовском электрооргане – высокий, худощавый, он стоит, согнувшись огромной «С», и ногами жмет на педали. Тедди сидит за ударными, высунув язык в щель между передними зубами, мочалка желтых вьющихся волос свешивается на лицо. Юджин подбирает что-то на контрабасе – как обычно, повернувшись лицом к стене с таким видом, будто он здесь один.
Было время, когда Росс и Юджин поговаривали о том, чтобы отправиться в турне, и я собиралась ехать вместе с ними. В начале прошлого года, примерно тогда же, когда Ной сделал мне предложение, ребята подписали контракт с «ЛавКрафт», новым независимым лейблом из Детройта. Это был для них идеальный вариант: компания маленькая, но не слишком, довольно внимания к каждой группе, но при этом уже вышло несколько громких имен, служивших хорошей рекламой. Представитель компании говорили, что они оплатят все расходы на турне, если мы его планируем. Под «мы» подразумевалась я, де-факто директор группы. Единственная фанатка, сумасшедшая настолько, что готова была часами сидеть на телефоне, обсуждая площадки для выступлений и мотели, рассылать ролики с презентацией и «строить» всех, от бухгалтеров до барменов.
После смерти Ноя нам позвонили из Детройта и сказали, что очень сочувствуют нашей утрате, но разрывают отношения. Ной был сердцем группы, сказали в компании, он и являл собой тот «образ», ради которого и подписывался контракт. Никто из нас не знал, что делать дальше. Мы продолжали раз в неделю встречаться у Макса, ребята играли старые песни, импровизируя там, где должен был вступить Ной. Этого хватало, чтобы просто быть вместе, хоть что-нибудь исполнять.
Росс вступает со своим соло на клавишных, и звучит оно так долго, что я почти забываю, какую песню они играют. Одна из тех, что написал Ной, когда часто слушал «Бич Бойз», называется «Воскресное солнце». Пальцы Росса двигаются так судорожно, что мелодия практически неузнаваема – просто шквал нот, перемежающийся тяжелыми аккордами.
– Есть!
Я слышу позади себя незнакомый голос, поворачиваюсь и вижу сидящую у сломанного усилителя Симону, нынешнюю девушку Росса. Когда я пошла в девятый класс[1], она еще ходила в среднюю школу и носила одежду в цветочек. Да и сейчас носит. Летом – цветастые платья, осенью – цветастые комбинезоны. Длинное черное пальто, расшитое яркими цветами, – всю зиму. Сейчас это пальто брошено на колени, и из-под него виднеются колготки с цветочным узором.
– Привет, Симона.
Мы смотрим, как играют ребята. Музыка звучит слишком громко, чтобы говорить, и это к лучшему: у нас с ней никогда не было общих тем. Симона начала крутиться поблизости за несколько месяцев до смерти Ноя. Он называл ее Хищницей. Казалось, она кружит, выжидая удобного момента, чтобы броситься на жертву. Росс оказался легкой добычей: он серийный однолюб. Все его отношения длятся недолго, он переходит от одной девушки к другой, словно по списку. Вполне возможно, список у него и правда есть – у сцены никогда не переводятся девицы, готовые повертеть перед ним задницей. Однако Симона задержалась дольше, чем кто-либо из нас думал, – это и неловко, и трогательно.
Через несколько минут Росс потягивается и наклоняется, чтобы что-то сказать Тедди. Тедди показывает большой палец и пихает локтем Юджина, который наконец-то поворачивается к нам. Его непослушные черные волосы намокли от пота и прилипли ко лбу. Росс козырьком приставляет руку к лицу – свет здесь очень яркий, это якобы добавляет «сцене» аутентичности, – и вскакивает, увидев меня.
– Тэм, – говорит он, бросаясь ко мне. – Не знал, что ты придешь.
Я снимаю с себя куртку Ноя и прижимаю ее к груди. Я все еще в тех же грязных джинсах и слишком просторной фланелевой рубашке, которые надела на день рождения Элби, и рядом с похожей на цветущий сад Симоной вдруг чувствую себя чумазым уличным мальчишкой.
– А что тут такого? Я здесь каждую неделю. Росс чешет бритый затылок – в старших классах он носил отвратные дреды и за это поплатился ранними залысинами, поэтому теперь бреет голову. Вдруг он встревоженно хмурится и сжимает губы.
– В чем дело? – спрашиваю я.
Симона грациозно встает, выполняет какую-то растяжку в стиле йоги – сгибает одну ногу и упирается ступней в бедро другой – и складывает руки в молитвенном жесте.
– Ничего-ничего, – отвечает Росс. Позади него покашливает Тедди, Юджин делает вид, будто его вдруг заинтересовала какая-то выпуклость на ячеистой стенке. – Просто… в общем, мы сказали Симоне, что ей можно сегодня посидеть с нами. Ну, в смысле попробовать.
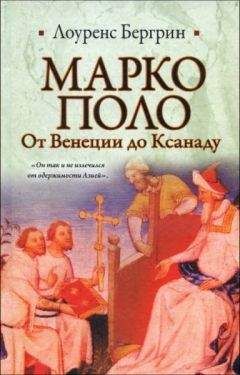
![Эрих фон Дэникен - Боги майя [День, когда явились боги]](/uploads/posts/books/186572/186572.jpg)


