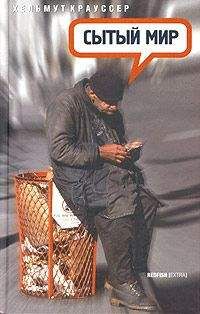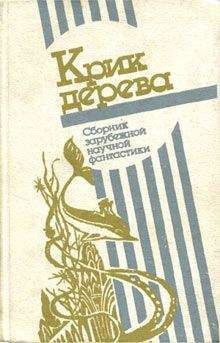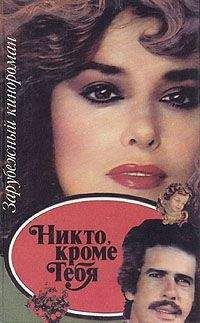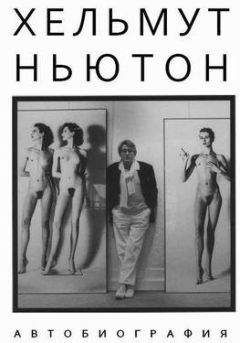Хельмут Крауссер - Эрос
Софи поцеловала шишку – и я едва не врезался в другую машину, пропустив знак пересечения с главной улицей.
– Ты, урод, куда прешь?! – цыкнул на меня Генри.
– Простите.
Проклятие! До чего же глупую ошибку я совершил. Меня словно ударило током. Разве настоящий берлинский таксист извиняется за свою оплошность?!
– И кому теперь только не дают права…
– Ничего, с каждым бывает, – сказала Софи. Она выглядела так восхитительно.
– А ты? Хорошо попраздновала? – угрюмо спросил у нее Генри.
– При чем тут праздник?
– Я слышал, кого-то шлепнули. Эх, меня бы туда!
– Я считаю, что это большое горе.
– Эх, я уж думал, что так и застряну там до скончания века. Биргит, гнида, два раза приходила ко мне, сказала, что ничего не может поделать. Она меня не любит, точно тебе говорю.
– Ты не прав. Она делает все, что может.
– Значит, ни черта она не может! Ты трахалась с кем-нибудь?
– Нет. Ты чего это?
– Я все равно дознаюсь, скажи лучше сама.
– Прекрати!
– Девка, я горячий, как сковородка! На мне можно жарить глазунью! – Он попытался пригнуть ее голову к своей ширинке.
– Перестань, Генри. Не здесь.
– Эй ты, водила! На Мерингдамм было ближе по мосту через канал!
– Там пробка. Вы сильно торопитесь?
– Нашел отговорку… – Грязная свинья снова повернулась к моей святой возлюбленной.
– Ты скучала без меня?
– Конечно.
– А ну-ка, потрогай!
Я не мог этого видеть, но он явно пытался засунуть ее руку в свою ширинку.
– Генри, прошу тебя, хватит!
– А ну, гляди вперед, на дорогу! – снова заорала на меня эта сволочь.
Приняв вправо, я резко затормозил.
– В чем дело?
В зеркало заднего вида на меня умоляюще смотрела Софи. Я закурил сигарету. Несмотря на невыносимую боль, я чувствовал, что жив.
– Что такое? Он что, спятил?
Я вышел из машины, оставил свою дверь открытой, и быстрыми шагами пошел прочь. Меня душил приступ тошноты, и я уже не мог сдерживать его.
– Да он сейчас сделает ноги! – ничего не понимал Генри.
– Тогда мы тоже сделаем ноги. Пошли!
Софи вытянула своего хахаля из машины. Позже, сопоставив некоторые фразы из их разговора, я понял, что у Генри были вши.
– Такое со мной в первый раз…
– Пойдем, Генри! Наш водитель явно немного не в себе.
– У меня руки чешутся надавать ему по мордасам!
– Хочешь обратно в тюрьму?
– Но что он себе позволяет?!
– Да мы просто не заплатим ему, вот и все! Пойдем, пойдем! Осталось каких-то три квартала.
– Ты что, с ним знакома?
– Нет же, нет. С чего ты взял?
– А что тогда здесь происходит?
– Понятия не имею, честное слово. Генри, пошли быстрее, и дело с концом.
И они пошли пешком.
Запись с прослушивающего устройства от 16 июня 1967 года, квартира на МерингдаммГенри. Ты танцевала здесь с каким-то типом Прямо тут, на кухне! Хольгер мне все доложил…
Софи. Хорошо. Я танцевала с ним. Но больше ничего не было.
Генри. За дурака меня держишь? (Звук удара.)
Софи. Ты не посмеешь больше ударить меня!
Генри. А вот и не угадала, подружка! (Звук удара.)
Софи. Ах ты, проклятая мразь!
(Звуки интенсивных ударов.)– Как же вы могли вынести такое?
– А что бы вы сделали на моем месте? – Старик приподнял плечи и негромко вздохнул.
Что отвечать на этот вопрос, я не знал, но, чтобы взбодрить его, выразить ему сочувствие и солидарность, высказался сурово:
– Я бы просто замочил этого мерзавца.
– Вот видите! Видите! Какое искушение! Многие на моем месте приняли бы именно такое решение и с большой вероятностью загремели бы в тюрьму. Но я, наверное, мог позволить себе это без особых последствий. Однако не думайте, что я держал на службе бандитов и убийц. Все, кто сотрудничал со мной, были очень достойными людьми, которые получали от меня деньги, чтобы продолжать достойную жизнь. Признаюсь, я тешился мыслью о таком повороте дела. Может, вы думаете, что я должен скрывать от вас эти мысли? Нет. Зачем? Я не святой, но чтобы задать всей истории верный тон, вы должны помнить, что я действовал из лучших побуждений. Пожалуйста, не изображайте меня безумным главнокомандующим частной армии – это означает осквернить всю историю грубой криминальной романтикой. Я являлся бизнесменом и был влюблен, может, болезненно влюблен, но я никогда не переступал ту грань, за которую легко мог перейти. А может, именно в этом и состояла моя ошибка?
Необработанный материал
У фон Брюккена не было ни времени, ни терпения рассказывать все в деталях. Кроме того, его все же подводила память. Но материал набрался очень богатый: просто какая-то глыба материала. Первая редакция этой книги составила двести страниц, и это вовсе не предел, но я решил пойти по пути радикального сгущения информации. Кое-что я мог реконструировать, опираясь на записи разговоров, сделанных с помощью прослушивающих устройств, – например, той беседы, что вели Софи и Александр ночью второго июня 1967 года в квартире на Мерингдамм. Этот разговор не просто характерен – он многое проясняет, поэтому я счел возможным привести его полностью, без сокращений, хотя это и несколько противоречит законам романной драматургии.
Софи. Что мне сейчас говорить тем, кто собирается искать оружие? Я не знаю. И я не хочу отвечать за то, что они делают, за тот путь, который они сейчас выбирают, понимаешь?
Александр. У тебя такая бурная жизнь…
Софи. А у тебя нет?
Александр. Можно сказать. Да, сегодня выдался напряженный день. А так…
Софи. Мне казалось, в твоей профессии впечатлений хватает.
Александр. Да? Крутишь себе баранку и крутишь. Цель дороги – сама дорога. И больше ничего.
Софи. Утверждение, что цель заключается в самой дороге, само по себе оптимистично, но меня оно вгоняет в тоску. Разве оно не означает, что ты никогда не достигнешь конечного пункта? Люди живут на свете и ищут свой путь, и в какой-то момент смерть ставит точку в исканиях. В жизнь после смерти я не верю, ведь в таком случае наше существование превратилось бы в вечное детство, в разновидность подросткового периода, полного муки, душевных терзаний и боли. Я все-таки хочу достичь некой станции назначения и просто жить, пусть очень недолго, но счастливо. Я хочу ощутить реальность счастья, хочу прижать его к себе и больше не отпускать. И пусть оно будет совсем мимолетным и длится ровно столько, сколько нужно, чтобы осознать его и громко прокричать солнцу: сегодня я счастлива и нашла то, что так долго искала, все прекрасно, и я преисполнена благодарности и смирения. Надеюсь, такое счастье все же возможно – и если мне когда-нибудь суждено найти его, тогда я перестану омрачать его страхом, что снова могу его потерять, ведь сейчас оно со мной и одаривает меня блаженством. Но под дурманом страха я могу забыть о скоротечности счастья. Кажется, так говорил Сенека.
Александр. Похоже на него. Я никогда не любил Сенеку. Ему легко было рассуждать о том, что страх нужно переживать с достоинством и бесстрастно принимать неизбежное, ведь он был богатейшим человеком Рима, его состояние в пересчете на немецкие марки достигало трех миллиардов. Все его высказывания отражали привилегированную позицию, так что…
Софи. Однако он так смело и красиво принял смерть, когда Нерон велел ему покончить с собой. Он лег в ванну и вскрыл себе вены…
Александр. Нуда, что же ему еще оставалось делать? Он выбрал самую легкую смерть, когда человек теряет сознание очень медленно. Кроме того, он знал, что потомки будут наблюдать за тем, как он умер, и долго говорить об этом. А еще он был уже стар и прожил свою жизнь в удовольствиях. Не лучше ли было восстать против тирана и убить его?
Софи. Философы не убивают – это ниже достоинства Сенеки. Также не надо забывать о том, что Нерон был его учеником. Если бы Сенека умертвил его, не означало бы это, что он являлся плохим учителем?
Александр. Учитель из него явно вышел никудышный. Так ты считаешь, что убить тирана ему помешало тщеславие?
Софи. Думаю, что такие люди, как Сенека, организованы слишком тонко, чтобы грубо вмешиваться в земные дела, их удел – интеллектуальная сфера. Я, к сожалению, не гожусь для умственного труда, мне не хватает для этого мозгов.
Александр. Но его покорное согласие умереть – незрелое решение. На смерть его толкнули не высокие духовные сферы, а чисто земное сумасбродство императора.
Софи. Может быть, это не сумасбродство? Вдруг Сенека и на самом деле планировал свергнуть Нерона?
Александр. Как бы там ни было, для меня его поступок означает одно – неудавшуюся жизнь. То, что ты слепо подчинишься чьей-то злой воле, не уменьшит Всеобщего страдания. Так поступают лицемеры, для которых главное – сохранить собственное достоинство. При этом они называют преступление досадным неудобством, подобным лишь комариным укусам. Нет уж, спасибо. А мы что, играем в Руссо и Вольтера?