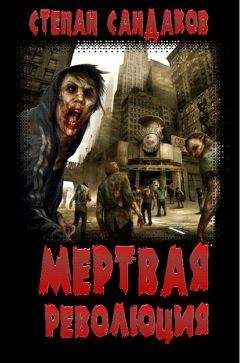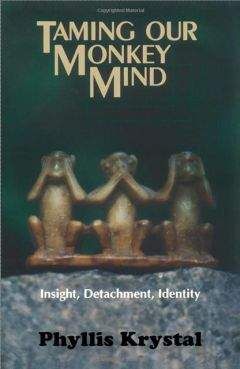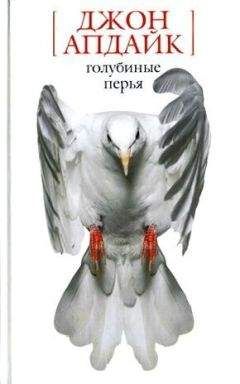Сол Беллоу - Равельштейн
Я не смог доесть луциана. Ужин тянулся целую вечность.
Розамунда сказала:
– М-да, вечер не удался. Нельзя так скверно готовить в таком красивом месте.
Нельзя подавать несъедобную еду рядом с теплым тропическим морем, мерцающим под светом луны. Ресторан в десяти минутах ходьбы от твоего жилища – что могло быть лучше? Никаких тебе походов по магазинам, готовки, мытья посуды, выноса мусора…
К полуночи ночной воздух замер, морской бриз утих. Я быстро узнал, сколько частных самолетов прибывает на местный аэродром – неожиданное открытие о состоятельности и летных навыках изрядного количества американцев, мексиканцев, венесуэльцев, гондурасцев и даже европейцев – людей, которые любят подчинять себе реальность. Стоит им только подумать о каком-нибудь месте – и через несколько часов они уже там. В XVI веке испанские мореплаватели проводили в пути много месяцев. Сегодня ты утром играешь в гольф в Венесуэле, а ужинаешь на Юкатане. Назавтра снова летишь в Пасадену – чтобы поспеть на игру Апельсинового кубка.
Когда думаешь о несчастных богачах, которые целыми днями продумывают маршруты, строят полетные планы, считают расход топлива и так далее, – тебя самого незаметно начинает охватывать усталость от бесконечных перелетов.
Но перейдем к главному: Бедье из «Форжерона» меня отравил.
Я стал жаловаться на слабость и усталость, и Розамунда решила, что так сказываются на моем состоянии стресс и горе. Она тоже до сих пор скорбела по бедному Равельштейну, павшему жертвой собственной сексуальной опрометчивости.
Розамунда не отмахивалась от жалоб – наоборот, без доли раздражения выслушивала все мое нытье. Она сказала, что отдых часто начинается с такого вот чувства тяжести. Затем ласково погладила меня по лицу и велела хорошенько выспаться.
Я прислушался к ее совету, но легче не стало. Как впоследствии выяснилось, токсин был термостойкий, и правильная кулинарная обработка рыбы меня бы не спасла. Позже, в Бостоне, мне объяснили, что сигуатоксин быстро выводится из организма, однако успевает радикально повредить нервную систему. Ну прямо как синдром Гийена – Барре. Среди первых симптомов – резкая потеря аппетита. Я не мог даже смотреть на пищу. Возненавидел все кулинарные запахи. На ужин я проглотил немного кукурузных хлопьев с молоком, без конца твердя Розамунде, что это даже хорошо – теряю лишний вес. Как и все в Штатах, я был жутко перекормлен.
Французское семейство снизу приехало сюда из Руана, чтобы отдохнуть, побездельничать и забыть о повседневных хлопотах среди тропических красот. Они плавали в теплом море – как и мы с Розамундой. Мы вместе сохли на солнышке и приятно беседовали. Но запахи, шедшие из их кухни, были невыносимы. Помню, я спросил Розамунду:
– Да что за дерьмо они там готовят?!
– Неужели все так плохо?
Затем я прочитал ей лекцию об упадке французского кулинарного искусства.
– Раньше в любом парижском бистро можно было вкусно поесть. Наверное, поток туристов уронил им планку. Или так сказывается исчезновение крестьянства?
– Вот почему мне нравится с тобой жить, Чик: тебе есть что сказать по любому поводу! Но ты совсем потерял аппетит. У меня даже родилась теория: ты был так напряжен – перенапряжен, выжат, – что это умиротворенное местечко для тебя слишком умиротворенное. Ты весь как скрученная пружина.
Ее явно беспокоили мои резкие выпады в сторону соседей.
– Пойдем отсюда. Не могу больше нюхать эту вонь.
– Пойдем.
– Да, тебе нужно поесть. Хорошенько поужинать. Сам я есть не хочу, но ты должна.
Ночами я плохо спал – сердце шалило. Я увеличил дозу хинина, прописанного доктором Шлеем, кардиологом. Таблетки запивал несколькими стаканами хинной воды. Голова у меня была ясная, но почему-то немели ступни.
– Ступни колет, – пожаловался я Розамунде.
– Может, отсидел ноги? Попробуй работать стоя. Или с хинином переборщил?..
– Доктор Шлей сказал, что от мерцательной аритмии его можно пить в любых дозах… Господи! Говорю, как заправский врач.
Мы пошли по пляжу, чтобы не нюхать дым от жаровен на главной улице. Хозяин «Форжерона», вышедший отдохнуть на улицу, сделал вид, что не заметил моего приветствия.
– Пять тысяч миль от Франции – и пожалуйста, ему уже нет дела до politesse [24], – сказал я.
– Ну, мы же перестали к нему ходить.
– Machts nicht [25]. Он – свинья, которую обучили манерам, да только они не прижились. Какие всюду ужасные люди! Из дерьма не сделаешь конфетку, как ни старайся.
Я сам не понимал, насколько тяжело болен. Только чувствовал, что не в себе и готов взорваться по любому поводу – прямо наваждение какое-то. Я слышал, что повторяюсь, и видел, как расстроена Розамунда. Она не понимала, что делать. Возможно, корила себя за то, что притащила меня на остров.
Расскажу об одной моей навязчивой идее. Я часто говорил Розамунде, что с годами время ускоряется и меня это угнетает. Дни пролетают мимо, «точно станции метро за окном поезда». Для наглядности я упоминал «Смерть Ивана Ильича». В детстве дни кажутся очень длинными, но в старости они «бегут скорее челнока», как говорил Иов. Иван Ильич тоже упоминал «образ камня, летящего вниз с увеличивающейся быстротой… Обратно пропорционально квадратам расстояний от смерти». Твоя жизнь находится во власти гравитации, в процесс приближения твоего конца вовлечена вся Вселенная. Если б только можно было вернуть те полные дни детства… Мы, полагаю, слишком легкомысленно относимся к данным, получаемым от жизни. Наш способ организации этих данных, проносящихся мимо подобно гештальтам – то есть все более обобщенным образам, – превращает наш жизненный опыт в опасную и хаотичную кутерьму переживаний. Мы хотим как можно скорее употреблять и переваривать информацию и невольно упускаем детали – которые завораживают и задерживают внимание детей. Искусство – один из способов замедлить это хаотичное ускорение. Метр в поэзии, темп в музыке, форма и цвет в живописи. Но мы все равно чувствуем, что неумолимо несемся к земле, чтобы в один прекрасный момент с грохотом вломиться в собственную могилу.
– Если б это были пустые слова… – говорил я Розамунде. – Я живу с этим ощущением каждый божий день. Беспомощное обдумывание этого факта само по себе сжирает отпущенное мне время…
Бедная Розамунда, ей приходилось выслушивать эти бредни каждый вечер за ужином, а ведь она надеялась устроить нам романтический отдых, что-то вроде второго медового месяца.
– Ты говорил об этом с Равельштейном?
– Ну… да, говорил.
– И что он сказал?
– Что Иван Ильич сам предпочел marriage de convenance, брак по расчету, а если бы они с женой любили друг друга, все вышло бы иначе.
– Да, бедняжки в самом деле друг друга ненавидели, – кивнула Розамунда. – Читать эту повесть – все равно что лезть на гору битого стекла. Одно мучение.
Она очень умная, моя Розамунда. Мы могли не только беседовать друг с другом, но и рассчитывать на понимание.
Наконец мы занялись фолиантами, несколько страниц из которых нужны были Деркинсу. Работы оказалось немного: я искал тексты, а Розамунда их перепечатывала. Фолианты были столь внушительных размеров, что не поместились бы ни в одну копировальную машину. Я зачитывал текст вслух, Розамунда набирала. Сперва я не вдавался в написанное, однако вскоре ушел в чтение с головой. Понятное дело, меня заинтересовала отнюдь не юридическая сторона дела – клиент Деркинса подал в суд за нарушение авторских прав. Автором дневника, на основе которого кто-то написал книгу, был американский врач, получивший исследовательский грант от Национального института Чего-то-там и проживший несколько лет в Новой Гвинее. То, что он еще и писал неплохо, сделало его отчет невероятно впечатляющим и запоминающимся. Например, он описывал отвесный склон утеса, поросший чудесными цветами – «алый водопад из орхидей». Было в его повествовании немало витиеватых и чересчур пышных пассажей, но читатель чувствовал, что автор таким образом реагирует на пышность природы. Исследователь поставил себе четкую научную цель, и вся статья целиком, без исключения, отвечала этой цели. Начал он с рассказа о том, что в рационе изученных им племен наблюдалась значительная нехватка белка. В своих примитивных войнах аборигены не могли позволить себе роскошь сожжения вражеских трупов.
Все эти научные спекуляции мало меня интересовали. Я уже несколько раз писал, что моя специальность – мелочи и детали повседневности. Равельштейн тоже не раз это подчеркивал. Не ноумены или «вещи-в-себе», – ими пусть занимаются канты этого мира. Черные обезглавленные трупы среди джунглей, струящиеся вниз на сотни футов красные орхидеи, – ничего себе явление, правда? Людей только что убили и обезглавили. Головы убрали в сторону, чтобы позже использовать в качестве валюты при покупке жен. Поэтому-то нынешние «охотники за головами» охотятся именно за головами. Однако нашего американского исследователя привлекли не звуки битвы, а запах жареного мяса. «Совсем как дома – пахло бужениной из печки. Или индейкой на День благодарения. Так же аппетитно. Человеческая плоть, оказывается, вполне способна вызывать слюноотделение… Воины предложили мне отведать их шашлыка из человечины. Жертвы лежали на животах, земля была залита их кровью. Победители, увидев мое выражение лица, едва животики не надорвали от смеха. Они говорили: «Подумаешь, это всего лишь мясо, обычное мясо». Стоит отметить, что автор в самом деле переусердствовал с описанием аппетитного запаха. Охотники сказали ему, что если бы в засаде подстерегли их, то сейчас бы на вертеле жарились они сами. Нам это может показаться попыткой оправдать свои действия, но для них то была просто суровая реальность жизни. Джунгли не изобилуют дичью. Охотники часто истощены и испытывают острую необходимость в питательной пище. Дальше американец писал о блокаде Ленинграда, о японских солдатах, оказавшихся в филиппинских джунглях, а также о команде спортсменов из Южной Америки, самолет которой разбился в Андах – во всех этих случаях люди были вынуждены питаться человечиной, чтобы выжить. И, несомненно, наши нигилисты, которым чужды любые запреты, тоже согласятся, что каннибализм совершенно оправдан. «Но тяжелей всего мне было нюхать аппетитный аромат жарящегося на костре человечьего бедра, только что отрезанного от трупа, который по-прежнему истекал кровью среди дивных цветущих зарослей. Это было самое трудное. Даже пыльные головы, которыми воины размахивали, когда шли свататься, не так меня потрясли».