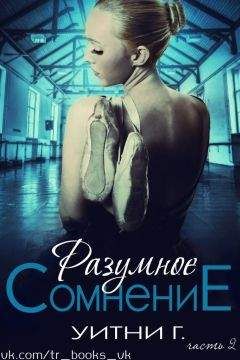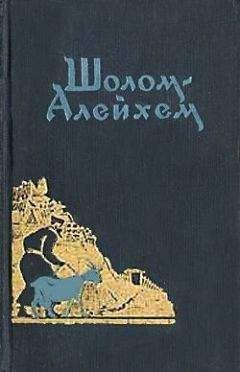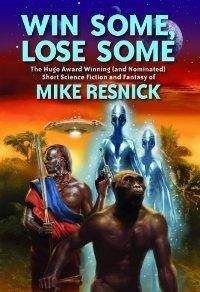Мелинда Абони - Взлетают голуби
The real big man[73] посетил сегодня наш «Мондиаль», думаю я, когда снова стою за стойкой, а Глория, получив от матушки новые чулки и умывшись, работает в зале, но я ведь все-таки не Туджман! В краткие паузы между заказами Глория шепотом говорит мне: ну сама подумай, если тебе кто-то скажет, что ты такая же мерзавка, как твой Туджман, что ты на это ответишь? (у меня в голове в это время вертится little big man[74], нигде Дастин Хофман не играл так гениально), Ильди, ну скажи же что-нибудь, Милошевич – самый большой злодей всех времен, я бы повесилась, если бы он стал главным у нас в стране, я Драгане так и сказала, прямо в глаза, шепчет Глория, я ведь права, Ильди? Милошевич и Туджман – это же небо и земля (я почти ничего уже не помню, только лицо Дастина Хофмана, такое впечатление произвела на меня его серьезность), ты сама-то Туджмана знаешь? – спрашиваю я, стараясь не рассмеяться. Конечно, знаю, а ты заметила, какие большие, красивые глаза у Туджмана? Я отрицательно трясу головой, вытряхивая кофейную гущу в коробку, но ведь Милошевич не президент Боснии, говорю я, зато ему все сербы подчиняются, тут же отвечает Глория, это все знают, она ставит чашки на блюдца. Драгана считает себя боснийкой, замечаю я; ты на одну порцию меньше сварила, Ильди; то, что кто-то босниец или боснийка, – это просто бред, дурной сон, если бы мы, хорваты, не верили в то, что мы хорваты, мы бы все еще были югославами. То есть проигравшими, ты так это понимаешь? И Глория кладет рядом с чашками кофейные ложечки, Драгана сербка, хочет она того или нет, и до сегодняшнего дня я ничего против нее не имела, но если она вздумает оскорблять мою страну, то, Глория ставит поднос на правую ладонь, то между нами все кончено, и Глория так решительно направляется в зал, что ее белокурые, недавно обесцвеченные локоны развеваются.
Франьо Туджман сегодня носит белую блузку, рукава с буфами, размышляю я про себя, ногти с ярко-красным маникюром, несмотря на годы, у нее все еще густые волосы; хорватский президент в отличном настроении, мурлычет под нос английские поп-шлягеры, чуть покачивая бедрами в ритм, что вполне гармонирует с ее неброским макияжем и аккуратно выщипанными бровями, а чтобы выгодно подчеркнуть свои красивые скулы, она сегодня надела не очки, а контактные линзы, причем, наверное, цветные, думаю я; и этот Франьо Туджман, обязанность которого – бодро и элегантно порхать по «Мондиалю», со звоном бренчать клавишами механической кассы, – этот Франьо Туджман полчаса назад с разбитым в кровь коленом валялся в кухне, возле холодильной камеры, где сложено множество буханок хлеба, груды круассанов, стоят десятилитровые ведра со льдом; Туджман подрался с Драганой, которая утверждает, что она – боснийка, и всех глав бывшей Югославии считает одержимыми (а теперь еще политики, как по команде, стали верующими, вот ведь штука! – говорила мне Драгана. Недавно все были коммунистами, Ильди, все признавали только красное царство небесное, а теперь? А теперь у каждого свой рай, jeder isch Gröschte, was meinsch, was isch, wenn alle Paare scheided, wil sie nicht de gliiche Religion sind?[75], она вот, например, вышла за мусульманина, который даже свинину ест, если она вкусно приготовлена).
Ко мне за стойку приходит матушка, просит зайти в кабинет, написать на грифельной доске меню, и прошу тебя, Ильди, никому ни слова о сегодняшнем инциденте, конечно, говорю я, отдаю матушке передник, беру с собой в кабинет чашечку кофе, сажусь за коричневый письменный стол, закуриваю, смотрю на настенный календарь, где сразу же бросается в глаза логотип; подарки от торговых агентов, думаю я, беру мел и пишу на доске: Далибор, Далибор, Далибор, пока вся доска не заполняется сверху донизу, потом откидываюсь на спинку кресла, разглядываю это произведение искусства и думаю о том, что, когда Далибор сказал, что он серб, хорватский серб, у меня ведь тоже что-то дрогнуло внутри, я тут же увидела перед собой отца – чтоб именно серб! – и я, поплевав на губку, начисто вытираю доску.
«Домашняя лазанья с зеленым салатом», матушка сказала, чтобы это я поставила в начале, «яичница-глазунья с овощами» (я вспомнила об отце, потому что представила, что он скажет, если я познакомлю его с Далибором; вот как, серб, скажет он, поздравляю!), сегодня же вечером поговорю с отцом, я записываю эту фразу на доске, чтобы не забыть, и закуриваю еще одну сигарету, я спрошу у отца, а что, он не знает ни одного порядочного серба (я сама понимаю: порядочный как исключение – плохой аргумент, так как чаще всего лишь подтверждает неутешительное правило), матушка заглядывает в кабинет: ты чего так долго? – я загораживаю доску, чтобы матушка не узнала, над чем я ломаю голову.
Мы с матушкой сидим за столом, отец в своем кресле уставился на экран телевизора, в руках у него пульт, матушка говорит: иди, наконец, за стол, отец прыгает с канала на канал, не хочу я есть, бурчит он, потом встает, открывает буфет, берет бутылку, мы с матушкой молча едим, там, где обычно сидит Номи, поставлен прибор, она, наверно, скоро придет, говорит матушка, отец, не отвечая, уходит в кухню, матушка, подняв брови, смотрит на меня и спрашивает: ты знаешь, где она? – пока отец, ругаясь, вытряхивает из формочки лед, наверняка в «Вольгроте» или у Дэйва, но исчезнуть на целый день и ночь – такого никогда не было. Да, не было, отвечаю я громко, чтобы отец тоже слышал, но когда-то должен быть первый раз, мы ведь уже достаточно взрослые, разве нет? Матушка бледнеет, она вспоминает столько слышанных подобных историй, но сейчас она думает об одном: не будем ругаться, только не сейчас! Тише, ради Бога, он услышит, не могу я переносить этот крик! Ссора, она как прокисшая еда, только желудок испортит. Я слышу, как отец возвращается из кухни, я пригибаюсь немного, тянусь за куском хлеба, но отец проходит у меня за спиной, садится в свое кресло, кусочки льда позвякивают в стакане, отец делает звук телевизора громче; мы с матушкой некоторое время по инерции жуем, потом просто сидим за столом, словно стол и стул для нас сейчас – самое главное, нам ничего не приходит в голову, о чем можно было бы поговорить, мы находимся здесь исключительно для того, чтобы наблюдать за отцом, а он курит сигарету за сигаретой, встает, открывает дверцу бара, наливает стакан, идет в кухню за льдом, хлопает дверцей холодильника, садится в кресло, молчание отца становится пугающим, есть люди, которые громче всего заявляют о себе, когда молчат, думаю я, мне хочется встать, собрать посуду, убрать сыр, ветчину, но я не могу двинуться с места, я думаю о Номи, собственно говоря, она старше меня, хоть и младшая моя сестра, она делает вещи, на которые я никогда не решилась бы (Номи никогда не приспосабливается, но не специально, а просто потому, что у нее такой характер, она как-то располагающе беззаботна, такой она была и в школе, когда имела дерзость приходить в класс в лиловом комбинезоне, в то время как тон там задавали четыре девочки из богатых семей, они решали, что модно и что нет, и ни лиловый цвет, ни комбинезон в перечне модных вещей не числились, Номи же щеголяла в лиловом комбинезоне и потому была крайне непопулярна у этих девочек, зато, по той же самой причине, была невероятно популярна среди остальных, так как думала своей головой, обладала своим стилем, проявляла свою волю, и вообще было в ней что-то, благодаря чему никто не мог ее игнорировать, и Номи просто смеялась тем заносчивым девчонкам в глаза, когда те дразнили ее Bubenschmöckerin, то есть чокнутой на мальчишках).
На часах уже больше десяти, когда у отца начинается приступ говорливости: он почем зря кроет этих двух куриц, нет, в самом деле, хоть уши затыкай, когда две курицы принимаются кудахтать насчет политики, словно что-то в ней понимают, хотя на самом деле в политике они – как пресноводные рыбешки в море, то есть никак; только тут до меня доходит, что отец говорит о Глории и Драгане, он снова завелся из-за того, что они посмели так громко ссориться, нет ничего хуже, чем свара двух глупых куриц, отец весь кипит, а матушка переводит дух, думая, что отец хоть на минуту забыл о Номи, – ну и, естественно, посетители настораживаются, еще бы им не насторожиться, если эти две курицы кричат друг другу по-сербски всякие гадости, и отец поднимает свой бокал в сторону телевизионного диктора, этот Майли из общины сегодня спрашивает меня, неужто мы все юго, пришлось ему объяснять, что мы – венгры, и непонятно, почему Майли этого не знает; вы там, пока работаете в зале, не можете объяснить людям, в чем разница между славянами и венграми? Что венгры к сербам имеют такое же отношение, как божий дар к яичнице, это им все-таки надо бы знать! Матушка, еще раз переведя дыхание, решается встать и уносит масло, сыр, ветчину на кухню, как настоящая официантка, а я думаю, что это, пожалуй, не самый подходящий вечер, чтобы рассказать о Далиборе; матушка торопливыми шагами возвращается в комнату, гремит посудой, собираясь унести ее в мойку; ты еще тут на нервы действуешь, кричит отец, нельзя, что ли, эти чертовы тарелки оставить там, где они есть, ты что, уборку собираешься начинать? Отец вскакивает, снова наливает себе виски, но без льда, а я сижу и думаю, что Номи теперь уже вряд ли придет, хорошо бы пойти в ее комнату, посмотреть, взяла ли она с собой какие-то вещи, книги, но я словно приклеилась к стулу, сижу с застывшим лицом под люстрой, взгляд мой словно примерз к окну веранды, что-то мы не так сделали, что-то наверняка испортили, говорит отец, он говорит так же громко, как телевизор: иначе чего бы я тут сидел и ждал дочь? (ну да, я подозревала, что «курицы» – это только начало, это для разогрева; я слышу, как матушка моет посуду, моет с большим шумом, чем обычно, струя воды бьет из крана, тарелки, чашки звенят, а ты на что надеялся, Миклош, что все будет так, как тебе нравится? При чем тут «надеялся»?! И отец грохает стаканом по столу, кто надеется на мираж! Голос отца наполняет комнату, о да-а-а, в следующий раз она своих хахалей сюда приведет, ко мне в дом, и я должен буду с хахалями моих дочерей пить на брудершафт, мол, очень рад, Duzis machen, per du, froit mi![76] И отец трясет чью-то воображаемую руку (а мне вспоминается, как на одной школьной экскурсии, мы еще совсем недолго жили в Швейцарии, первая колбаска, которую я поджаривала в пламени костра, упала в огонь, слишком тонкая была палочка, сказала учительница, когда я заплакала), а жизнь, да знают ли они вообще, чего она стоит, эта жизнь, если только и успеваешь прыгать туда-сюда, и то нужно, и это необходимо, и если даже какую-никакую профессию себе выбрать не можешь? Какой-нибудь чертов коммунист, проходимец, он тебе указывает, чему тебе учиться, и как имя писать, и как вздохнуть, и как перднуть, чтобы это не было против строя направлено (я вижу себя: я сижу на своем стульчике, в траве, рядом – подвязанные розы, на клумбе анютины глазки, лиловые, желтые, я их всегда терпеть не могла), а тут еще дочери твои с вывихнутыми мозгами, одну не волнует школа, голова вроде есть, но она ее на что угодно использует, только не на школу, а вторая, она что делает? – историю учит, отвечаю я, но отец не слышит меня, он вскакивает, открывает бар, берет бутылку, собирается налить в стакан, но потом ставит его в бар и пьет виски прямо из бутылки, садится с ней в кресло, а вторая, та не может решить, куда идти, потому что перед ней все открыто; Миклош, ты меня с ума сводишь, что мне делать, смеяться или плакать? матушка входит в комнату, закрывает за собой кухонную дверь, обнимает меня за плечи, иди ложись спать, говорит она, и я не знаю, мне или отцу она это говорит; что бы мы с вами делали, если б война, если б ничего, ничего, ничего не было, голос отца с каждым «ничего» делается громче, он уже громче телевизора, матушка стоит у меня за спиной, теплые руки ее лежат на моих плечах, иди ложись, говорит она снова, и я понимаю, что она говорит это мне; я сижу, не отвечая, матушка садится напротив, загораживая от меня мое отражение. Ну что, Роза, мы ведь хотели, чтобы дети наши жили лучше, этого мы хотели или нет? Да, у них жизнь лучше, жизнь у них – как у сытых зверей в зоопарке, точно, могут на голове ходить, как мартышки, нас считают за идиотов (никогда я вас не считала за идиотов, хочу сказать я), эх, Роза, будь у нас такие возможности, как у наших дочерей, мы и тогда бы делали то, что делаем? Хватит тебе, говорит матушка, ты же пьян. Да, я пьян, я напился, я пьяная свинья и останусь пьяной свиньей, потому что не хочу быть никем другим, только пьяной свиньей, слышишь? (Может, нам раньше надо было откровеннее быть с родителями, не скрывать от них своих друзей; мы с Номи долго думали и решили, что лучше не грузить матушку и отца своими проблемами; а чтобы делать то, что здесь делают все, «пикантные темы» мы переводим на венгерский так, чтобы это звучало прилично, скажем, Fez[77] – это вечеринка по случаю дня рождения, где мы все вместе задуваем свечи, играем в разные игры… мы знали, что родители нам не совсем верят, а они не хотели нам говорить, что им это тоже знакомо, этот пожар, который горит в твоем и в чужом теле, они ведь выросли в другой культуре; мне хочется встать и выйти, выйти в ночь, звезды такие прекрасные, они говорят нам, мы вас не понимаем, вы слишком далеко, вот почему звезды так непостижимо прекрасны: им не до нас, говорил Далибор.)