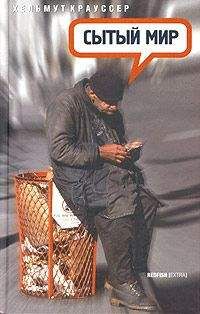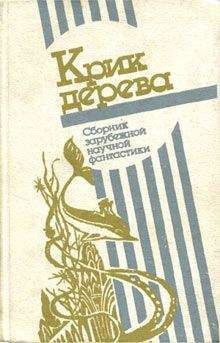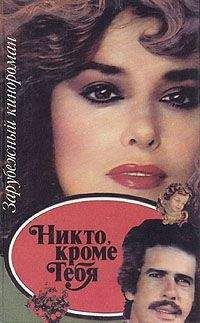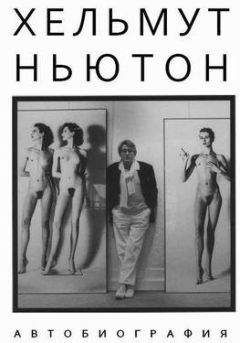Хельмут Крауссер - Эрос
– Простите, но ваш ответ меня не удовлетворяет.
– Не удовлетворяет? – Лукиан повторил это слово с легким отвращением в голосе.
– Вы просто не хотите нам помогать.
– Александр рассказывает вам лишь сотую долю того, что происходило, и вам должно быть абсолютно все равно, вспомню я еще какую-нибудь незначительную деталь или нет, – парировал Лукиан, однако его тон немного смягчился.
Не вынимая рук из карманов пальто, он резко повернулся, потом сказал, что все бывает только однажды и ни одно событие нельзя вернуть, смоделировать заново. Каждый момент жизни неповторим, и даже самый искусный художник может воспроизвести его лишь отчасти. Кроме того, жизнь имеет свойство разочаровывать, и человеку отпущены считанные мгновения счастья.
Что он имел в виду? Трудно сказать. С одной стороны, он словно хотел, чтобы я еще раз попросил его об одолжении, с другой – Лукиан выглядел скромным фаталистом, который давно примирился с прошлым и не хочет без особой нужды ворошить былое. Но почему тогда он вообще идет на контакт со мной? Лукиан проводил меня до двери комнаты и проследил, чтобы я заперся изнутри. После нашего разговора я чувствовал себя как малый ребенок, которого опекают и ставят на место все кому не лень. Однако все говорило в пользу того, что Лукиан неравнодушен к моей работе, он признаёт меня и считает последним камушком в мозаике этой истории.
День четвертый
В бесконечности. Параллели сближаются
В ту ночь я не мог усидеть в отеле. Я принял горячую ванну, выпил четверть бутылки виски, но и это меня не успокоило. Мне требовалось узнать, что с Софи, благополучно ли она добралась до дома. Почти всех моих людей арестовали на месте, пополнение еще не подъехало. В то время не было другой техники для мобильной коммуникации, кроме увесистых, грубых раций, которые сразу же бросались в глаза. Я был почти уверен, что Софи не узнала и не узнает меня, – значит, ничто не мешало навестить ее. Я желал ей только добра и не собирался вторгаться в ее жизнь; хотел только помочь, поддержать в трудный момент, защитить и окружить заботой. Что в этом дурного? Молчите? Не отвечаете?… Существует ли этика любви? Я слышал, что у любителей животных, снимающих о них фильмы, принят неписаный закон – не вмешиваться в то, что происходит в природе, не помогать слабому, физики тоже знают, что на протекание эксперимента влияет даже наблюдение за ним…
– Но ведь это касается только квантовой физики?
– Может быть, неважно. Я вовсе не хочу оправдываться, повторять азбучные истины вроде «Любовь оправдывает все». Я знаю, помню, чем вымощена дорога в ад, – конечно, благими намерениями, я слышал это не раз. Но хочу, чтобы именно вы ответили на мой конкретный вопрос: предосудительным было то, что я делал для Софи или нет?
Какой ответ он хотел услышать от меня? Я поймал себя на том, что подыскиваю слова, которые покажутся ему правдивыми. Выдавать себя за другого человека – это заблуждение, тесно связанное с потерей самоуважения. Хотя нельзя отрицать, что очень многое в нашей жизни строится на заблуждениях и неуважении. Я считал, что в этом случае неуместны патетические рассуждения о вине, что речь скорее идет о первопричине цепочки взаимосвязанных событий с непредвиденными последствиями. Жить – как раз и означает создавать причинно-следственные цепочки. Избежать этого не смогли бы даже самые ортодоксальные буддисты. Что, я должен был произнести это вслух?
– Я не вправе судить вас.
– Что?! А для чего вы тогда здесь, позвольте спросить? Исключительно для того, чтобы судить меня! – Его голос дрожал от ярости. – Ваш роман должен дать четкую оценку моей жизни, так что прошу вас быть строгим и объективным. Не бойтесь обидеть меня, ведь я все равно умру… Но только… – Оборвав фразу на полуслове, фон Брюккен закрыл лицо обеими руками. – Но я не хочу умирать. – Затем он внезапно рассмеялся. – Простите. Давайте не будем касаться этих материй.
О чем мы? Ах да, в ту июньскую ночь я стоял на Мерингдамм у дома Софи и смотрел вверх. Все той окна ее квартиры были ярко освещены. Одно это подействовало на меня успокаивающе. Но этого казалось мало. В три часа ночи я позвонил в ее дверь, и какой-то человек открыл мне. Квартира была полна до отказа, вы даже не представляете, как много туда набилось народу, и мало кто обратил внимание на мое появление.
К Софи пришла практически вся группа слушателей, чьим политическим просвещением она занималась. Я не понял, празднуют они что-то или активисты объявили чрезвычайное положение и собрали всех, чтобы обсудить последние события, Возможно, это звучит несколько цинично, но в тот момент намерения гостей действительно были неясны. По комнатам туда-сюда слонялись люди, преимущественно мужчины, они пили пиво, слушали два радиоприемника, один из которых играл джаз, другой ловил переговоры полицейских по рации.
Поначалу мой приход никого не удивил, но вскоре кому-то бросились в глаза мои итальянские туфли.
– Кто это такой?
Все сразу стихли и молчали до того момента, пока на меня не взглянула Софи.
– Он помог мне.
Болтовня и дебаты тут же возобновились. Меня задело, что на этом весь интерес ко мне закончился. Софи не поприветствовала меня, не спросила даже, откуда я знаю ее адрес. На этот случай я приготовил какую-то отговорку, хотя уже и не помню, какую именно. Кстати, раз уж я заговорил об итальянских туфлях, то замечу, что большинство молодых мужчин, что заседали в квартире Софи, оказались одеты весьма прилично – в галстуки и чистые рубашки. Вы, наверное, представили себе банду разбойников, обросших бородами, – нет-нет, это пришло позже. Белая рубашка, узкий черный галстук – именно так одевались тогдашние революционеры, по крайней мере, те из них, кто хотел выглядеть интеллектуалом.
В одной из комнат я обнаружил Мартина, если его звали действительно так. В ту же секунду меня осенило: Софи могла подумать, что ее адрес я узнал именно от него. Все стало ясно. Мартин храпел, развалясь на кушетке, – похоже, порядком набрался. Должен ли я был возмущаться по этому поводу? Ведь этого человека нанял я, и он по большому счету находился на службе. Ладно, черт с ним, пусть отдыхает.
У приемника, ловившего полицейские переговоры, дежурил некий Хольгер, бородатый тип в клетчатой рубашке (а вовсе не в белой с галстуком). На вид ему не было и тридцати лет. Внимательно прислушавшись к шумам и хрипам, доносящимся из аппарата, Хольгер сообщил, что на улицах опять начинается ад.
– И с чего мы решили, что можем ему доверять?
Я уловил эту фразу и лишь некоторое время спустя понял, что она относится ко мне. Меня изучал взглядом молодой мускулистый блондин с рано поредевшими волосами. Его звали Олаф, и, как я узнал позже, даже в своей компании его считали параноиком. Как ни в чем не бывало я зашел в ванную и взял бутылку пива – важный инструмент пролетариев.
– Эй, ведь я задал вопрос! Вы что, совсем оглохли? – не хотел отступать Олаф.
В этот момент проснулся Мартин, увидел меня, вздрогнул и прохрипел пересохшими губами:
– Я его знаю. С ним все в порядке.
Несколько мгновений мы смотрели друг другую глаза. Я счел необходимым назваться:
– Меня зовут Борис.
– И ты его знаешь? – упорствовал Олаф.
– Мы работаем в одной фирме.
Пока Мартин произносил эту короткую фразу, цвет его лица менялся несколько раз. Он наморщил лоб и явно старался взять себя в руки, чтобы действовать наверняка и не пороть чепухи, но даже этой невинной фразой он вверг меня в замешательство. Ко мне повернулась Софи:
– Ты, похоже, таксист?
– Э-э-э… М-да. Временно.
Нас перебил Хольгер:
– Там, похоже, укокошили фараона.
Все бросились к приемнику. Сообщение оказалось ложным, но выяснилось это только на следующий день.
– Это начало революции! – громко захлопал в ладоши Олаф. – Пора выходить на борьбу! Мы должны сражаться!
Софи заявила, что насилием она сыта по горло. Олаф зашипел, что она рассуждает, как детсадовская воспитательница. Своим замечанием он наступил ей на любимую мозоль. В гневе Софи раскрыла было рот, чтобы ответить обидчику так же ядовито и хлестко, но в последний момент сдержалась» махнула рукой и заявила с оттенком самоиронии:
– Да, иногда мне кажется, что у меня именно такая профессия. Особенно когда слышу подобные призывы.
– Я не собираюсь доживать до блаженной старости, как ты! Лучше я приму яд!
«Вот скотина», – подумал я. Моя ненависть к Олафу была решительной и бесповоротной. Как он может говорить с моей Софи в таком тоне?! Но когда я огляделся по сторонам, то заметил, что мы с Софи здесь старше всех. Впервые в жизни я осознал с особенной остротой, что мое поколение сменяется другим и правят бал уже иные, молодые. В свои тридцать семь я считался юнцом и переросшим вундеркиндом лишь среди предпринимателей моего ранга, а в компании двадцатилетних выглядел стариком, и эти вчерашние дети, казалось, имели все основания не доверять мне.