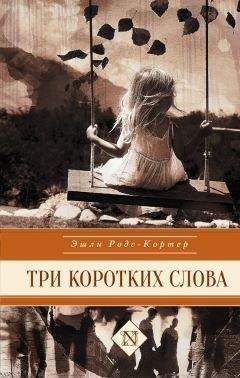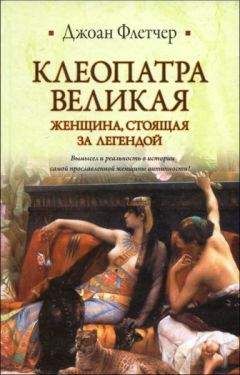Джек Керуак - Мэгги Кэссиди
– Ты, ты, ты – откуда тебе знать? – Ему хотелось взвыть по-над снегами, над двадцатифутовой стеной до самого своего дома с его темными и трагическими окнами, не считая одного бурого огонька в кухне, что не говорил ничего, не показывал ничего, кроме смерти, – лишь давал понять, что мать его уже начала бдение с масляной лампой, пока в кресле, потом на маленькой кушетке у печи в кухне, под жалким хилым покрывалом, хотя все это время ей оставалась целая кровать в спальне… – Так темна эта комната, – кручинился Джи-Джей, Гас, Янни для матери, Янни, когда ей хотелось назвать его средним именем, и все в округе слышали, как она зовет его в печальных красноватых сумерках ужинать свиными отбивными – «Янни… Янни…» Бубновый валет чужих разбитых сердец. И Гас обернулся к своему величайшему и глубочайшему другу, которого окрестил Заггом.
– Джек, – беря его за руку и задерживая остальную банду, – ты видишь вон тот огонек, что горит в окне у моей мамы?
– Я знаю, Гас…
– …что показывает, где старушка в эту ночь, как и во все прочие ночи, пока этот несчастный чертяка и недотепа пытается вытащить с собой Загга и оттяпать себе хотя бы чуточку удовольствий этого мира… – глаза его слезятся, – …и не просит слишком много, на что этот Господь в милосердии своем и в шчедрости своей необычайной, как его там, Загг, может ответить лишь: «Гас, Гас, бедный Гас, молись ангелам и мне, и я прослежу, Гас, чтобы твоя бедная старенькая мама…»
– А-ах, выключила газ! – заорал вдруг Заза Воризель, настолько вдруг уместно, что Лозон хихикнул пронзительно и дико, и все услыхали, но не обратили внимания, поскольку слушали, как Гас толкает очень серьезную речугу о своих горестях.
– …что лишь на мгновенье мои душа и сердце могли упокоиться и увидеть, что моя мама – Джек, она же всего-навсего старушка – у тебя отец не умер, ты не знаешь, что такое старенькая мама-вдова, у которой нет старика, вроде твоего Пыыкаа Рыг Эмиля Ду-луоза, – чтоб он входил в дом, задирал ногу и откладывал кучку – это же утешает, заставляет старушку – заставляет ребенка, меня, понять: «У меня есть старик, он приходит домой с работы, он уродливый старый маньяк, за которого и десяти центов никто не даст», – Загг, но вот он я – только две сестренки, брат умер, старшая сестра замужем – знаешь же, Мари, она раньше любимой у мамы была… утешительницей – когда Мари была рядом, я так не волновался, как сейчас – Ох черт, я ведь не – выставляю напоказ свои горести перед вами, парни, да? Чтоб вы поняли, что сердце у меня разбито… что, сколько жить буду, меня всегда цепи будут вниз тянуть, в океаны жалких слез, где я ноги себе уже омочил при мысли о моей бедной старушке-маме в ее клятом старом черном платье, Загг, которое – она ждет меня! Она вечно меня ждет! – В банде суета. – Спросите Загга! Три часа ночи, мы возвращаемся домой, мы трепались себе, может, у Блезана или просто встретили Счастливчика на улице и остановились поздороваться – (растолковывая все и размахивая рукой, он весь жаждал, косноязыкий, красноречивый, его почти оливковая кожа, зеленовато-желтые глаза и искренний напряг, будто на древнем базаре или дворе) – и вот мы такие входим, ничего не произошло, однако, а еще не слишком поздно, однако, вот моя Ма – Вот моя Ма у окна, с этой лампой, ждет – спит. Я вхожу на кухню, пытаюсь на цыпочках, чтобы не разбудить ее. Она просыпается. «Янни?» – вскрикивает она тихонько, будто плачет… «Да, Ма, Янни – я гулял с Джеки Дулуозом». – «Янни, почему ты возвращаешься так поздно, я волнуюсь до смерти?» – «Но, Ма, уже поздно, я знаю, но я же сказал тебе, со мной все будет в порядке, что мы дальше кондитерской Детуша нипочем не пойдем», – и я потихоньку свирепею и ору на нее в три часа ночи, а она ничего не отвечает, просто довольна, что со мной все хорошо, и без единого звука уходит в свою темную спальню и ложится спать, а встает, лишь эта хренова заря забрезжит, чтобы мне овсянку перед школой сварить. А вы, парни, все понять не можете, почему меня чокнутым Мышем зовут, – серьезно закончил он.
Джек Дулуоз обнял его и быстро убрал руку. Попробовал улыбнуться. Гас искал в его глазах подтверждения своим горестям.
– Ты по-прежнему величайший правый нападающий в истории, – сказал Джек.
– И величайший запасной питчер, Мышо. Ты когда-нибудь видал, как он закручивает – сдохнуть можно. Прикинь? – Лозон подскакивает к нему, хватает за руку, и они идут дальше.
– О! – сказал Гас. – Да тут просто как… распродажа польт. Всего на свете не прочтешь. Нах! Я говорю, я вам говорю, джентльмены, – нах – чтоб я еще хоть словом заикнулся, только серебряные пробки с шампани скручивать буду, как они называются – такие огромные фугасы вискача и пойла – хлоп – хлюп – весь мир в мою трубу спустится, прежде чем Джи-Джей Ригопулос лапки задерет!
И все они радостно завопили; и дошли до большого перекрестка Потакетвилля, до угла Риверсайда и Муни, по которому кружил возбужденный снежок под дуговым фонарем, и сели в желтый автобус, и все люди орали друг другу приветы с тротуара на тротуар.
4
По Риверсайду и направо со своей матерью жил Скотти Болдьё – в деревянном доме, на третьем этаже, туда нужно было взбираться по наружной деревянной лестнице, как в снах, где такие лестницы подымаются из десятифутовых кустов, целые джунгли на поле внизу, и приводят тебя, покачавшегося на пролетах между шаткими террасами, где сидят странноликие франкоканадские дамы, глядят на тебя и перекликаются друг с другом: «Эй-ё, мадам Беланже, a tu ton[5] стирку закончила?» У Скотти была своя комната, из которой он не вылазил по многу часов, старательно записывая красными чернилами крохотными цифирками и маленькими буковками средний счет бейсбольных команд за лето; или же просто сидел в бурой кухне и читал спортивную страницу «Сан». Там был еще младший брат. И покойный папа там тоже был. Папа был мужичина с огромными кулаками, на вид мрачный, чьи ежеутренние уходы на работу напоминали отбытия Голема сквозь туманы и моря выполнять свой долг. Скотти, Джи-Джей, Загг, Лозон, Винни – все они играли важные роли в летней бейсбольной команде, зимней баскетбольной и неуязвимой осенней футбольной.
Лозон жил на Риверсайд-стрит дальше в обратную сторону, откуда они шли, ниже по склону от греческой кондитерской, на самом краю песочной пустыни песчаного берега, на улочке с розочками, среди коттеджей. Высокий странный отец Лозона работал высоким странным молочником. Высокий странный младший братец Лозона ходил в церковь, молился, читал новены и с остальной детворой своего возраста готовился к конфирмации. На Рождество у Лозонов была елка с подарками; у Джи-Джея Ригопулоса елка тоже была, но худосочная, драная, навсегда поверженная, сияла она в его темном окне; мать Скотти Болдьё ставила елку на линолеум в гостиной со степенностью гробовщика, возле урн. В большом доме Зазы елки, подарки, венки на окнах, конфетти… у него была типичная здоровенная франко-канадская семья.
Винни Бержерак жил на другой стороне реки на Муди-стрит, в трущобах. До дома Джеки Загга Дулуоза – рукой подать от перекрестка, на котором они сейчас остановились. На перекрестке висел светофор, он освещал снег краснотой роз и зеленью венков. Большинство окон в деревянных домах на обоих углах сияли красными и голубыми огоньками; из их труб валил праздничный пар; а люди сидели внизу, в асфальтированных дворах, и раскатистым эхом болтали под заснеженными бельевыми веревками.
Многоквартирный дом Джека Дулуоза находился несколькими крылечками выше по дороге, на другом углу квартала, где, казалось, постоянно кипела жизнь вокруг потакетвилльского центрального магазина, прямо у передвижной закусочной, через дорогу от кегельбана, бильярдной, на автобусной остановке, возле большого мясного рынка, а по обе стороны улицы – пустыри, где ребятня играла в свои серые игры в бурых зарослях зимних сумерек, когда луна только показывается в своей изысканной, дальней, невидимой бледности, точно ее заморозили и извозили грифелем. Он жил с матерью, отцом и сестрой; и у него была своя комната, окна с четвертого этажа таращились на море крыш и блестки зимних ночей, когда домашние огоньки каре помахивают под более чистым и ярким сиянием звезд – тех звезд, что на Севере ясной ночью миллиардами развешивают свои мерзлые слезы, а январский Млечный Путь – что твоя серебряная ириска, завеси мороза в недвижности громадно мерцают, бьются в такт медленному пульсу времени и вселенской крови. В доме Дулуозов кухонное окно выходило прямо на яркую, неистовую уличную жизнь; внутри же яркий свет рисовал много еды, веселья, яблок и апельсинов в широких вазах на белых скатертях, чистые гладильные доски прислонялись к стенам за лакированными дверями, буфеты, блюдца с воздушной кукурузой, оставшиеся с прошлого вечера. Серыми днями Джеки Дулуоз спешил домой, весь потея в ноябре и декабре, чтобы посидеть в сумраке за кухонным столом, над книжкой о шахматах поедая целыми коробками крекеры «Риц», намазанные арахисовым маслом. По вечерам его большой отец Эмиль возвращался домой и садился в темноте у радио, кашлял. Через кухонную дверь в коридор сам он несся очертя голову искать друзей, а по парадной из главных комнат дома ходил только с родителями, обществом и выполнять более прискорбные, более формальные поручения – Задняя лестница была такой тусклой, пыльной, странной, словно от стен отставала штукатурка, когда-нибудь он припомнит ее в своих удрученных снах о ржавчине и утрате… в тех снах, когда тень Джи-Джея будет падать на кусок сломанной ножки, точно глиняная тарелка на улицу, точно модерновые картины в своей резкой вопящей потерянности… В 1939-м еще никакого представления о том, что весь мир сбесится.