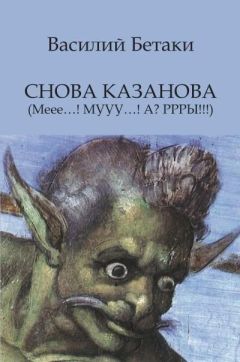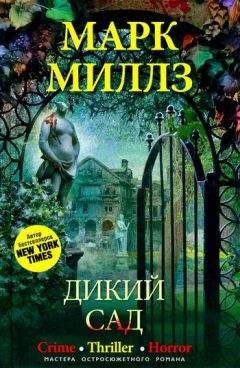Марк Миллз - В ожидании Догго
Старые афиши вдохновили нас с Эди своими стилизованными рисунками давно забытых французских ликеров, остроносых океанских лайнеров, несущихся вперед локомотивов и утопающих в пальмах курортов на Ривьере. Разница заключалась в том, что все они служили подтверждением превосходства соблазнительной силы стиля и моды над содержанием. Содержание же являлось той единственной картой, какую мы могли разыграть, продвигая такой непривлекательный, лишенный всякого шика автомобиль, как «Варго».
Эди первой указала на несоответствие. И как только прозвучали ее слова, старые плакаты больше не манили – скорее дразнили нас со стен. Впрочем, все равно пора было уходить. Эди еще записалась в парикмахерскую.
Я не знал другой женщины с такой же короткой стрижкой, как у нее.
– Наверное, просто подровнять?
– Там будет видно, – ответила она. – Представляете, до какой степени обритости я могу дойти?
– Как у Эллен Риппли в третьем «Чужом». Слабо́?
– Не слабо́.
Мы с Догго проводили Эди до станции метро «Южный Кенсингтон», где она еще раз попыталась дозвониться до Патрика Эллори, но опять включился автоответчик. Эди пообещала связаться со мной, если удастся поговорить с ним. И словно только что вспомнив, сказала, что завтра обедает с друзьями в пабе на берегу неподалеку от Ричмонда. Я, как назло, не мог составить ей компанию – тогда бы мне пришлось отказаться от обеда с матерью, приезжающей из Испании на похороны Пат Коннолл.
– Почему вы не сообщили?
– Решил, что слишком близко принял к сердцу слова деда.
Эди могла подумать, будто я просто храбрюсь, но это было не так. Когда мама позвонила в четверг, чтобы согласовать место и время нашего обеда, я по ее голосу понял: она не станет обсуждать со мной ничего более мрачного, чем то жаркое, какое нам подадут в ресторане.
Глава двадцать первая
Моя мать маниакально пунктуальна. Помня об этой ее особенности, я постарался прийти вовремя и поэтому опоздал не так сильно, как всегда. Двенадцать минут – результат лучше не бывает. А маме, как я заметил, данного времени хватило, чтобы пропустить «Кровавую Мэри».
Спиртное развеяло ее дурное настроение. Мать не хотела обедать в этом месте, но в их любимый с Найджелом ресторан – тот, что расположен неподалеку от отеля, где они останавливались, приезжая в Лондон, – не пускали с собаками.
– В жизни он лучше, – заметила мама, увидев Догго.
– Если хочешь, можешь погладить его.
– А надо, дорогой?
– Он чистый. Я вылечил его от блох. И давал лекарство от глистов.
– Ты сам? Своими руками? – удивилась она и даже неловко похлопала Догго по голове.
– Где Найджел? – спросил я.
Слабое оправдание, если в последний момент человек узнает о какой-то очень важной деловой встрече, от которой никак нельзя отказаться. Это заставило меня задуматься, в голову полезли неприятные мысли. Но вскоре они затерялись среди тревог и взбудораженности разговора о завтрашних похоронах Пат Коннолл и о призраках из прошлого, которых мать ожидала и жутко боялась встретить в крематории в Хартфордшире.
– Папа приедет?
– Не знаю. Думаю, что нет. Пат была одна из немногих, кто принял мою сторону, когда он ушел от меня к лесбиянке.
– Мама, Кэрол не лесбиянка!
– Не будь таким наивным, дорогой. Они маскируются не хуже гомосексуалистов.
В такие моменты разрыв между поколениями казался непреодолимой пропастью.
– Теперь никто так не говорит.
– Ты сам подбери слово, а мне пора приниматься за устриц.
Мама всегда любила выпить бокал вина – хлопок пробки в шесть часов вечера врезался в мою детскую память, – но сейчас заливала в себя «Сен-Веран» так, словно хотела потушить пожар. Я попросил ее сбавить темп. Она ответила, что старается. И этот загадочный ответ был первым знаком того, что́ надвигалось. Я подождал пару секунд, и следующая мамина фраза развеяла все сомнения.
– Я солгала тебе про деда, – пробормотала она.
– Про деда?
– Ты понимаешь, о чем я.
– Поясни.
– О том, что он тебе сказал. – Мать отвела взгляд. – Проклятый Найджел!
– Найджел?
– Он утверждает, что у тебя есть право знать правду. Но ничего хорошего из этого не получится. И теперь уже слишком поздно. – Она вытерла салфеткой навернувшиеся на глаза слезы.
Я словно окунулся в ледяное озеро. Опустил руку к Догго, и мне стало легче, когда по тыльной стороне ладони прошелся его шероховатый язык. Даже если бы я подобрал слова, неизвестно, получилось бы у меня произнести их вслух. Я видел, что матери тоже было тяжело.
– Извини, сын, – выдавила она.
– Кто? – спросил я.
– Этого я сказать не могу. Он не знает.
– То есть?
– Не знает, что ты его сын. Я должна сначала поговорить с ним. – Мама виновато покачала головой. – Надо было сделать это раньше. Собственно, я и собиралась, но посмотрела на тебя… и не получилось.
– Мама, ты должна рассказать мне.
И она рассказала – со сдержанным достоинством, совершенно не вяжущимся с ее историей. В конце семидесятых годов общежитие университета Восточной Англии представляло собой рассадник сексуальной распущенности. Я с удивлением узнал, что отец (мой отец?), всегда такой возвышенный, тоже вкусил запретный плод – любовь страстных студенток. Матери приходилось терпеть его плотские забавы – ведь право на единоличные отношения с партнером считалось буржуазным предрассудком, – и в некоторых она даже участвовала. Попробовала пару раз до того, как родилась Эмма, – нехотя, почти покорно, надеясь пробудить в отце ревность и остатки благопристойности. Потом, после рождения Эммы, попробовала еще раз, но не потому, что считала себя обязанной, а просто захотелось.
– Он был особенный. Молодой. Нежный. Очень привлекательный.
Я заметил, что хитросплетения памяти уводят ее от предмета разговора.
– Мама!
– У тебя тот же профиль. Мужчины с твердым профилем редко оправдывают надежды. Кто это сказал?
– Не знаю. Насколько молод он был?
– Писал диссертацию на отделении климатологии.
– Занимается наукой?
– Больше не занимается. Может, так, при случае. Он сделал себе имя в иной сфере.
– Доброе или плохое?
– Зависит от взглядов на политику.
– Университет Восточной Англии в 1982 году? Он, наверное, из левого крыла? Новая трудовая партия? Господи, я плод любви к Тони Блэру!
– Нет, – рассмеялась она.
– Тогда кто?
– Пока я не могу назвать имя. Сначала поговорю с ним. Ты ждал так долго, что еще немного не повредит.
– Ждать и тридцать лет находиться в неведении – совершенно разные вещи!
Услышав мой резкий голос, сидящие за соседним столиком люди подняли головы. Мать тронула меня за руку.
– Ты был плодом любви. Я понимала, что делала, ты появился на свет не по ошибке. Это было безрассудство. Господи, какое безрассудство! Но я хотела иметь от него ребенка. И чувствовала, он хотел того же. Просил меня уйти от твоего отца… от Майкла.
– Так почему ты не ушла?
– Не знаю. Боялась, наверное, боялась, что это его свяжет. Он был совсем молодым, но с большими задатками. И еще Эмма. Не забывай об Эмме. Мы были семья.
– Она в курсе?
– Нет, никто не знает.
– Кроме деда и твоего проклятого Найджела.
– Благодаря проклятому Найджелу мы сейчас ведем этот разговор, так что, будь добр, прояви к нему уважение. Знаю, он не из тех людей, какие тебе нравятся. Однако Найджел – хороший человек, поверь мне, таких мало.
– Прости. – Я опустил голову.
– Ты прощен. Я же на прощение не рассчитываю. Не теперь, может, позднее.
Я был потрясен, мои мысли путались. Но не сомневался в одном: никогда мать не говорила со мной с таким чувством, с такой обжигающей откровенностью. Она даже выглядела по-другому, словно все эти годы ложь, подобно вуали, скрывала ее истинное лицо, а теперь я увидел ее настоящую.
Все прекрасно. Сообщать не о чем.
Нечто подобное я отправил Эди, поскольку обещал написать, чем закончился наш разговор. Правду сказать не мог – она захотела бы все обсудить, наверное, даже предложила бы встретиться после своей поездки в Ричмонд. А мне надо было прогуляться – ощутить под ногами землю, единственно незыблемое, на что я мог положиться.
Ответ Эди проявился в моем телефоне, когда мы с Догго входили в Гайд-парк со стороны «Уголка ораторов». «Отлично, но плохо для моей матери, которая надеялась на большее!»
Не придумав, что ответить, я стал слушать выступающих – обычную чушь, которую несут, стоя на коробках из-под мыла и лестницах-стремянках, свихнувшиеся на религии и всякие другие безобидные психи. Правда ли, что Джона Кеннеди убили, потому что он собирался обнародовать тайну катастрофы неопознанного летающего объекта в Розуэлле? Доказательства получились сомнительными. Ярче всех выступил красноречивый молодой человек, который, ссылаясь на авторитетные источники, заявил, что Саймон Коуэлл[7] возведен в ранг члена нового мирового порядка, зловещего тайного общества масонов, иллюминатов, евреев, иезуитов, банкиров и других неприглядных типов, столетиями тайно правящих миром. Он даже умудрился свалить в одну кучу трагедию башен-близнецов и глобальное потепление.