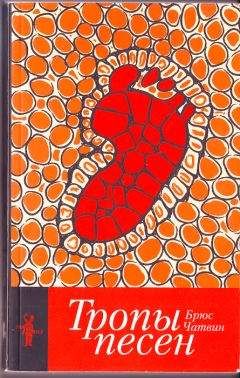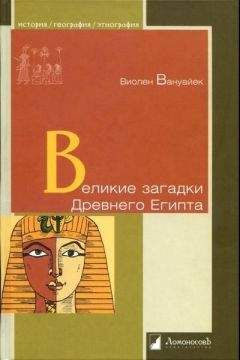Брюс Чатвин - «Утц» и другие истории из мира искусств
Новые российские хозяева определенно выступали за сохранение сокровищ прошлого. Сразу после штурма Зимнего начали составлять опись его содержимого, мародеров расстреливали. Анатолий Луначарский, первый нарком просвещения при Ленине, однажды довел своих слушателей до слез, вспоминая чудеса старины в Музее Неаполя. В ноябре 1917-го он дошел до слез сам, услыхав новости о разрушении Кремля и Василия Блаженного, и подал в отставку. «Не могу я выдержать этого. Не могу я вынести этого разрушения всей красоты и традиции». Позже, два дня спустя, он вернулся на свою должность в Совнарком, узнав о том, что слухи оказались ложными.
Что до левых, они, наоборот, были охвачены иконоборческим жаром. Им плевать было на то, что творится в Кремле. Маринетти как-то назвал его «абсурдной штукой»; сгори он, они бы и бровью не повели. Малевич надеялся, что все города и деревни каждые пятьдесят лет будут уничтожаться, и говорил, что ему больше жаль сломанный шуруп, чем разрушенного Василия Блаженного. Авангардисты не рассчитывали на восстание большевиков, но стали единственной группой российских художников, его приветствовавшей. Называя себя левыми, они требовали для себя полной монополии в искусстве.
Их поведение отличалось привычной бесшабашностью и одновременно – сверхчеловеческой энергией. Лозунг Маяковского «Улицы – наши кисти, площади – наши палитры» заставил художников пойти в народ. Они украшали поезда Агитпропа, разъезжавшие по стране, устраивали массовые представления, обклеивали старые дворцы громадными плакатами, затягивали памятники царских времен полощущимся кумачом, исполняли симфонии на фабричных гудках, развивали новое книгопечатание, чтобы распространять новые идеи, утверждали, что ломают преграды между искусством и техникой, между музыкой и живописью – последнего легко добиться в стране, где цветам соответствуют звуки: новогодние колокольчики звенят красным, а один поэт назвал шум революции 1905 года лиловым[70].
В идейном отношении художники друг другу противоречили. На одном конце спектра был Кандинский, уже не первый год писавший пейзажи своего внутреннего «я». Он верил в живопись как в исцеляющий ритуал, способный унять душевную боль и отлучить человека от материализма. «Живопись, – писал он, – освободит меня от моих страхов». Однако люди вроде Татлина с Родченко настаивали на том, что материализм – единственное понятие, которое стоит брать в расчет. Тем не менее все художники сходились в своей ненависти к образу. Искусство нового человека должно упразднить всякие изображения человека. Малевич, красноречивый – пусть и сумасбродный – пропагандист, метал молнии в Венеру Милосскую («не женщина, а пародия») и в «омут дряни академического искусства» с его женскими задами, порочными купидонами и застывшим наследием Греции. Он рассуждает тоном Исайи[71], говорящего об идолах, – сравнение, которое представляется мне уместным, ведь под очевидным поклонением русских человеческим образам скрывается импульс разнести их на куски. Излишества царизма последних лет народ воспринимал как открытый призыв к разрушению – это верно, однако иконоборчество в России имеет историю более долгую.
Россия – «Третий Рим», хранитель ортодоксальности, не признаваемой вероотступническим Западом, – унаследовала свое особое отношение к образу от Византии. Статуя императора или икона святого представляла собой доказательство правомерности той или иной политической или религиозной идеи. Высказывание «Кто восхищается статуей императора, тот восхищается императором» применимо к Николаю II с тем же успехом, что и к Юстиниану[72]. В авторитарных обществах образы любят – они укрепляют цепочку правления на всех уровнях иерархии. Однако абстрактное искусство с его чистыми формами и цветом, если оно выполняет серьезную, а не просто декоративную роль, сводит на нет поползновения секулярной власти, поскольку выходит за пределы этого мира в попытках постичь скрытую сущность закона, управляющего вселенной.
Народы, склонные к анархии, подобно кочевникам в пустыне, образы ненавидят и уничтожают; похожая черта – стремление к уничтожению образов – прослеживается и в российской истории. Страна кажется безграничной, что побуждает человека к поискам внутренней свободы. Революционную Россию наводняли эгалитарные течения; там были всевозможные мистики, бродяги – вечные странники, аскеты, адвентисты, люди, ищущие четвертое измерение, знаменитые молокане, оказавшие влияние на Толстого.
Мистические стремления не обошли стороной и Малевича. В его руках полотно, лишенное предмета, сделалось иконой анархии и внутренней свободы; потому-то оно и представляло опасность для марксистского материализма. Говоря о своей картине «Черный квадрат», он вспоминал, что чувствовал «черные ночи внутри» и «робость, граничащую со страхом», однако, решив порвать с реальностью и отринуть образ, – «блаженное ощущение того, что меня переносит в бездонную пустыню, где ощущаешь творческие пункты вселенной кругом себя. Так чувство стало сущностью моей жизни». Настоящий марксист так не изъясняется – скорее Майстер Экхарт или, если на то пошло, Магомет. «Черный квадрат» Малевича, этот «абсолютный символ современности», для живописца является эквивалентом затянутой черным Каабы, святилища в Мекке, в бесплодной долине, где все люди равны перед Богом. И если это сравнение кажется притянутым за волосы, процитирую суждение Андрея Бурова, архитектора, покинувшего ряды конструктивизма: «В этом присутствовало сильное мусульманское влияние и правоверное магометанство; в качестве украшений разрешены были только часы и буквы».
Левые художники с воинственным энтузиазмом принялись сметать классовые перегородки и насаждать эгалитарное искусство в народе. Затем они обратились к правительству с просьбой упразднить Общество художников-станковистов и отменить все традиционные формы живописи. Революция свершилась – уже сам этот факт требовал полного разрыва с академической традицией, чуждой, западной. Разносились призывы к тому, чтобы выбросить за борт пережитки прошлого, иначе новый человек будет «придавлен его весом, как перегруженный верблюд». По мнению Богданова, искусство прошлого было не сокровищницей, но арсеналом, позволявшим вооружиться против ушедшей эпохи. «Мы вдребезги разобьем старый мир», – объявил Маяковский, а затем предложил списать все, от Адама до Маяковского, на свалку истории.
Белогвардейца найдете – и к стенке.
А Рафаэля забыли?
Забыли Растрелли вы?
Время
пулям
по стенке музеев тенькать[73].
Многие представители власти считали, что левые стоят «левее здравого смысла».
Что вызвало эту истерию? Возникает подозрение, что художники с избытком компенсировали свое неучастие в борьбе плечом к плечу с большевиками. Но важнее другое: их, очевидно, вдохновляла мистическая сила машины. Как писал американский коммунист Джон Рид, «Набожным русским больше не требовались священники для того, чтобы их молитвами попасть на небеса. Они строили царство светлее, чем любые небесные милости, здесь, на земле…» Это царство было царством машины. Я слышал, что отсталость российской промышленности перед Первой мировой часто преувеличивается. Век машин наступил в России с опозданием, но когда время пришло, он ворвался туда с поразительной быстротой. Ему сопутствовали феноменальные темпы роста. Промышленные предприятия, пусть немногочисленные, были крупнейшими в мире; техасские нефтяники приезжали в Баку, чтобы своими глазами взглянуть на новейшие способы добычи нефти. С приходом революции средства производства перешли к самим рабочим, и в их руках машинам, созданным человеком, предстояло целиком преобразовать человечество. Во всяком случае, на это надеялись. «Мы хозяева машины и поэтому не боимся ее», – говорил Маяковский. Машина должна была породить новый социализм. Специалисты считали, что на это уйдет полгода.
Ленин начал умерять свой механический материализм, подчиняясь практическим соображениям. Левым подобная сдержанность была неведома. Большинство из них ненавидели природу или притворялись, что ненавидят. Перед человеком стояла прометеева задача кромсать землю и делать с ней все, что ему вздумается. Расположение гор и прочих неудобных географических объектов было «отнюдь не окончательным». Малевич, чей мистицизм возбуждали механизмы, призывал человека «захватить мир природы и построить новый мир, который будет принадлежать ему». Другие представители искусства называли себя «святыми храма машины». В «биомеханическом» театре Всеволода Мейерхольда актеры подавляли всякие живые эмоции и вели себя так, словно были частью механизма сцены. Собаки Павлова машинально выделяли слюну в ответ на раздражители. Понятие дома как «машины для житья», вероятно, берет начало не от Корбюзье – оно зародилось в России. Там сходили с ума по воображаемой Америке, там раздавались призывы к тому, чтобы «чикагонизировать душу» и «работать, как хронометр», с целью «обездушить» искусство и свести живопись к научному применению цвета.