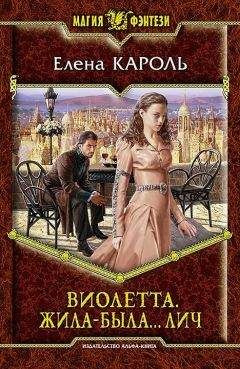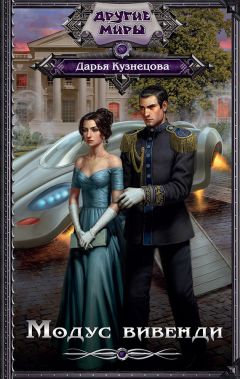Ирина Муравьева - Жизнеописание грешницы Аделы (сборник)
Они поженились. Адела смолчала. Все ее опасения и редкая даже для женщины проницательность выплеснулись в одной строчке из короткого письма брату: «У нас теперь в доме живет уголовник». Трудно сказать, что имела в виду Адела, выбрав именно это слово для определения непростого характера Андрея Анатольевича. Он ничего не украл из ее прекрасной квартиры и ни на кого из находящихся в ней ни разу не покусился. Но что-то в немного раздвоенном носе и в той напряженной сдержанности, которая отличала все его поведение, включая даже то, как он спускал воду в уборной, не просто настораживало Аделу, а сразу вело ее к горькому выводу: они были – люди закона, а он – уголовник. Скандалов, однако, совсем не случалось. И молодожен, и хозяйка квартиры терпели друг друга, как хищные звери, случайно попавшие в общую клетку. И только тогда, когда Андрей Анатольевич, желая избежать произвольного вторжения в их с Виолой комнату то девочки Яны, то парня Алеши, а то (что бывало нередко) Аделы, вмонтировал в дверь помещенья замок, Адела сказала, чтоб оба съезжали. И он, и Виола. Но только без Яны. У Яны здесь дом, и у Яны здесь школа. (А школа и правда была очень близко.)
Андрей Анатольевич добился крохотной комнаты в медицинском общежитии, и они съехали. Медицинское общежитие было на другом конце города, транспорт работал плохо, Виола опять оказалась разлученной с дочерью, и даже телефон в общежитии был всего один на целый этаж: с ребенком не поговоришь.
У Андрея Анатольевича были жесткие пальцы, и слава богу, что он работал офтальмологом, а не дантистом: мог рот разодрать – столь жестки были пальцы. Сначала у Виолы случалась тоска всякий раз, когда Андрей Анатольевич овладевал ею – никакое другое слово не подходило к его любви так точно и сильно, как это, – но вскоре тоска заменилась отчаяньем. То время романа, когда неулыбчивый доктор с раздвоенным носом и страстью в глазах дарил ей цветы и заглядывал в ее опущенное и бледное лицо с надеждой любви и смущенной покорностью, – то время прошло. Теперь у нее был муж, и муж чувствовал себя хозяином не только всего ее тела, но также души, а душа ускользала. Это ускользание Виолиной души, соединенное с ледяным холодом ее тела, вызывало страдание в Андрее Анатольевиче. Он не был ни добрым, ни злым человеком. Он был – дитя ссыльных, отверженных, чудом рожденный внутри мерзлоты, вечной ночи, зачатый рабами на жестком матрасе; и он, выбрав в жены Виолу, хотел бы глотнуть хоть немного тепла, но вышло напротив: Виола глотнула его этой жесткой и яростной воли.
А тут началась перестройка. И даже в холодном, недавно отстроенном Новосибирске подули какие-то странные ветры. Алеша однажды сказал за обедом, что он уезжает в Израиль. Адела схватилась за сердце и начала раскачиваться из стороны в сторону, не произнося при этом ни одного слова: так вдруг пересохло все горло. Марат Моисеевич, много лет пробывший парторгом в Театре музыкальной комедии, тоже как будто онемел. Алеша был баловнем, нежно любимым, ему позволялось шутить на все темы.
– Алеша, ты шутишь, – сказал Марат Вольпин. – Дурацкая шутка.
– Марат, он не шутит, – вдруг хрипло сказала Адела. – Он хочет уехать в Израиль.
– Дорогие мои родители! – развязным и одновременно испуганным голосом заговорил белокурый сын, услада их глаз и отрада их сердца. – Вы же не хотите, чтобы я погиб здесь? А это ведь может случиться. Я через год окончу институт и выйду маленьким, сереньким, рядовым советским инженером. И буду всю жизнь получать маленькую и серенькую советскую зарплату. И жить с вами вместе вот в этой квартире, поскольку откуда возьмется другая? И если я женюсь, то мне придется привести сюда свою жену, и они с мамой будут толкаться в одной кухне и ненавидеть друг друга. И я никогда ничего не увижу, кроме, в самом лучшем случае, какого-нибудь болгарского курорта. И у меня будут такие же друзья и сослуживцы. Хотите вы этого?
– Все так живут… – начал было Марат Моисеевич, но сын не дал ему продолжить.
– Я, папа, к тому же еврей. Ты об этом забыл?
– Я тоже еврейка, – сказала Адела. – И я прожила так огромную жизнь. И что? Ничего не случилось.
– А разве не ты рассказывала мне о том, как приехала в Москву поступать в консерваторию и врезала в морду какой-то засранке, которая обозвала тебя жидовкой? А если меня обзовут, я убью.
И сын тяжело покраснел. Адела смотрела на него и чувствовала такой глубокий страх, которого не чувствовала ни разу в жизни. А было ведь всякое. Но вот такого – чтобы она совсем не знала, как ответить собственному ребенку и чем возразить ему, как оборвать, когда всё, всё уже бесполезно и поезд ушел, – такого пожалуй что не было.
Потом пошли спать. А в полночь Адела в огромном халате, в разрезах которого мощные ноги белели, как будто стволы в синеватых сучках и наростах, и руки белели, а лоб был прорезан морщиной, как бритвой, вдруг встала с кровати и медленно, странно пошла по своей необъятной квартире. Она шла почти что на ощупь, вытянув вперед растопыренные пальцы в кольцах, которые перестала снимать даже на ночь, поскольку они въелись в мякоть, и, миновав тускло поблескивающую сервизами и вазами столовую, вошла к детке Яночке. Любимая и ненаглядная детка в своей заграничной пижамке спала. Ее спящее лицо повторяло лицо самой Аделы, каким оно было на тех старых фото, которые тихо лежали в альбоме. И родинка в левом углу подбородка, и сизый, как перья у птицы, затылок.
Адела тяжело, с медленным сдавленным стоном опустилась на колени перед кроватью и большую горячую ладонь свою положила на детские глаза. Под ее ладонью затрепетали ресницы, защекотали ладонь ее, как пойманные бабочки или стрекозы; она накрывала сильнее, давила, как будто хотела бы их успокоить и остановить их слепое движенье. Со стороны можно было подумать, что ребенок только что умер и женщина, со стоном закрывающая ему глаза, понимает, что и ее жизнь кончена.
Она поднялась, посмотрела. Что-то странное проступило в ее чертах: лицо ее вдруг начало опускаться, закатываться, подобно тому, как закатывается солнце, и тот же яростный блеск, с которым солнце, закатываясь, вдруг вспыхивает на самую последнюю секунду, желая, чтоб все на него посмотрели, вдруг вспыхнул на этом лице.
Они уезжали втроем: Алеша, Марат и Адела. Знакомые по театру и просто знакомые, с которыми Адела, как это могло показаться со стороны, делилась своими переживаниями, сочувствовали чете Вольпиных, вынужденных расстаться не только с Родиной, но также со внучкой и дочерью.
– Почему бы вашему сыну одному не уехать? – удивлялись они, пожимая плечами. – Почему вы его сопровождаете?
Что должна была она отвечать людям, которые искренно не понимали, почему она не может расстаться с Алешей? Можно ли объяснить слепому от рождения, что значит цвет моря, к примеру? Нельзя объяснить, не пытайтесь.
Весь ужас от предстоящей разлуки с Яной, который Адела носила в себе с того самого дня, когда она поняла, что Алешу уже не удержать, а жить без Алеши она не могла так же, как не могла жить и без Яны; но Яна оставалась, по крайней мере, с матерью, хотя никудышней, а Алеша, скажи она ему, что они с отцом никуда не поедут, уехал бы сразу один, – весь ужас ее постепенно переплавился в дикую ненависть к Андрею Анатольевичу. Он не собирался уезжать в Израиль, а не случись в их жизни Андрея Анатольевича, никто не стал бы и спрашивать Виолу о ее желаниях: собрались бы все и поехали.
Закрывши глаза, Адела рисовала себе отрадные картины: вот этот невысокий, широкоплечий и жилистый человек с его раздвоенным носом (что есть признак лживости!) выходит с передней площадки автобуса. Кто-то толкает его, и, поскользнувшись, Андрей Анатольевич оказывается прямо под колесами. Под крики собравшихся «Скорая помощь» увозит с собой его труп.
Или, например, Андрей Анатольевич возвращается вечером к себе в медицинское общежитие. Его догоняют какие-то парни и требуют денег. Он в этих деньгах им отказывает. Тогда от обиды один из парней его ударяет ножом прямо в сердце. Они убегают. Он, мертвый, лежит. Раздвоенный нос покрывается снегом…
Фантазии так и оставались фантазиями, при том что Андрей Анатольич был жив и здоров. Он был недоступен Аделе, он был неподвластен до тех пор, пока одна дьявольская мысль не пришла ей в голову. Виола была прописана в родительской квартире, и само собой разумелось, что после их отъезда они с Андреем Анатольевичем и девочкой Яной будут жить тут. Квартира, однако же, стоила денег. Ведь если, к примеру, Виолу бы выписать, то можно квартиру продать, а все деньги потратить. Не ехать же голыми в эту пустыню! Вон, умные люди везут на всю жизнь: сервизы, серванты, ковры, пылесосы, электроприборы, одежду и обувь… А им отправляться с одним чемоданом?
И жестокая Адела поставила условие: если вы собираетесь жить и радоваться в квартире, которая мне и отцу столько стоила крови, то вы нам заплатите. И сумму сказала, немалую сумму. Виола помертвела, когда ее мать сладчайше, медово и переливаясь чудесным контральто, сказала ей, сколько.