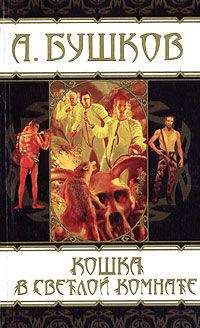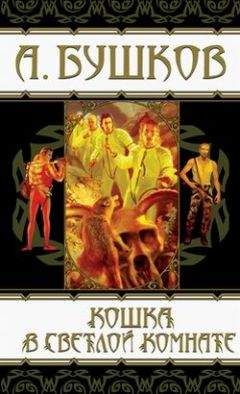Мануэль Скорса - Бессонный всадник
– Хозяин тебя зовет.
Старик стряхнул свою печаль, поднялся, и женщина повела его за собой. Они пересекли двор, прошли под аркадами, миновали залу, поплутали по переходам. Наконец старуха указала какую-то дверь. Дон Раймундо постучался. Ответа не было. Он осенил себя крестный знамением и вошел. В креслах, у окна полутемной, пропахшей гнилыми яблоками спальни, куда едва сочился дневной свет, сидел иссохший, задыхающийся человек, ничем не похожий на гордого дона Германа.
– Я пришел, сеньор Минайя, – сказал глава общины.
– А я ухожу, Эррера, – отвечал помещик.
Дышал он все тяжелее.
– Да будет воля господня, дон Герман.
В глазах умирающего забрезжил страх.
– Ты за правами? – выговорил он.
– Чужого не прошу, дон Герман. Уговор дороже денег.
– Я его выполню, – сказал Минайя и с превеликим трудом позвал: – Сос-те-нес!.. Состенес, – повторил он. – У нас в кладовке стоит черный кожаный сундук. Ты его знаешь?
– Знаю, хозяин, – отвечал надсмотрщик.
– Там бумаги, они нужны сеньору… Они ему принадлежат… Он возьмет их… Ключ у меня в шкафу.
– Много мы вам должны, сеньор Минайя?
– Началось полугодие, – прохрипел больной. – За вами пятьсот солей.
Дон Раймундо Эррера поглядел на обломки былого величия и неспешно поклонился. Состенес отвел его на чердак, занимавший почти все место под крышей. Там, низко пригнувшись, они добрались до сундучка, обитого тисненой кожей.
– Вот он.
Состенес дал старику ключ и пошел вниз. Подождав, пока затихнут шаги, дон Раймундо открыл замок и поднял крышку. Золотое сияние омыло его. Ослепленный скорей удивлением, чем страхом, старик отскочил назад и, притаившись за мешками овса, подождал, пока яркое пламя, охватившее забытые бумаги, не станет мягким свечением. В испуге и радости понял он, что земельные права общины, проспавшие сорок лет на затхлом чердаке, не отсырели, нет – они сверкали, словно полчище светлячков. Немного успокоившись, он обернул дарственную, чтобы она не потускнела, черной клеенкой, положил на самое дно сумы и отправился домой. Очищения ради он решил не есть, пока не доберется до своего селенья. Тихо и мирно миновал он лощины Анамарая, и лишь сверкание снегов напомнило ему о том, как утомился, как истомился духом дон Амбросио Родригес, представитель общины (выборных в ту пору еще не было), когда, перед самой своей смертью, ускользнул от преследователей, спустился в поместье Минайи и, в последний миг, предложил молодому дону Герману лучшую сделку во всей его помещичьей жизни: сберечь земельные права общины Янакоча.
Глава третья,
о том, почему реке лучше превратиться в озеро
Остановилась не одна Чаупиуаранга. Остановились и реки Чинче-Эпифанио Кинтана сообщил, что река Монсеррат совсем задурила, даже поросла тростником. Сесилио Лукано пришел из Уараутамбо – его послали продать картошку в Серро – и рассказал, что их река превращается в болотце. Только тогда и заподозрили мы, что с водой, вернее – под водой, творится какая-то пакость. Не помню, кто сказал: «Не иначе, как вдова…» И то, вдова Фелис не впервые наводила порчу.
– Да, больше некому.
– Сколько месяцев из дому не выходит.
– Хворает она.
– Нет, она ездила потолковать к донье Виктории, в Ракре…
–. Она может быть сразу в двух местах, – сказал Хуан Роблес, – Как-то вижу, она собирает цветы в ущелье Уманкатай, а потом узнаю, что в тот же самый день, в тот же час Пастрана продавал ей в Ондоресе ламий помет.
Тут в беседу вступил Пастрана.
– Мы сами виноваты, – с укором промолвил он. – Зачем мы ее обидели? Пожалели ей мяса, теперь платим.
На последний мясоед, когда мы готовили царское угощенье, вдова прислала к нам Обалдуя и велела «поскорее отправить ей полную суму жареного мяса». А Исаак Карвахаль ответил: «Хочет мяса твоя хозяйка, пускай деньги дает!» Вспомнили мы об этом и опечалились. Я как раз и передавал этот ответ, и Обалдуи нехорошо усмехнулся.
– И с чего вы такие склочные? – сказал дон Раймундо Эррера. – Не надоест? С Леандро-Дурака пример берете?
– Вспомните, дон Раймундо, про семью Минайя.
И вы, глава нашей общины, сразу побледнели. Был полдень. Мы сидели на площади, пока солнце греет, а то совсем замерзнешь у нас, в горах. Тут наши пончо стали тонкими, как бумага, и мы втянули под них руки. При одном имени Минайя дохнуло стужей. Это из-за них, несчастных, вдова наводит порчу. А несчастье их в том, что они – дети Бальдомеро Минайи, который возил контрабанду и тайно торговал водкой, но это бы ничего, хуже другое – он приходился братом вдове.
– Бедный дон Бальдомеро!
– Что ж он, не знал, с кем связался?
– Как не знать!
По злому ли умыслу или – что верней – по глупости Бальдомеро Минайя стал с ней тягаться из-за участка земли. Отец оставил им четыре надела, а Бальдомеро не отдал сестре Лечусапампу.[1] Мало того, когда они препирались перед мировым судьей, доном Магно Валье, Бальдомеро и скажи:
– Тебе потому она нужна, что совы – твои подружки!
Вдова, никогда не бывавшая замужем, тут же ушла. Пятилась она задом, чтобы никто не увидел ее спины.
– Насчет спины не наврал?
– Они никогда спины не покажут.
– Поклясться можешь?
– Душой своей клянусь!
Больше Бальдомеро Минайе не пришлось оскорблять сестру. А когда он собрался ее молить, у него уже онемели ноги. Сперва он думал, что устал. Оно и верно, устал, только с чего? К. утру он хромал, через месяц завел палку, потом и палка не помогала, ноги совсем обмякли. И не у него одного. На всех Минайя накатила такая гадкая немочь. Что-то мешало им ходить. Всякого, кто звался Минайя, так и тянуло присесть. Минайя за Минайей, неутомимые плясуны и плясуньи, бравые мужчины, молодые женщины, едва волочили ноги. Тогда еще праздновали дни святых; и вот, на святого Иосифа, ни один Минайя не смог плясать. Они испугались, запросили пощады, но ничто им не помогло – ни мольбы, ни брань. Авелино Минайя доковылял до самой доньи Виктории, но она не приняла подарков, не пожелала перечить подруге. Через три месяца после суда Минайи решили идти к вдове с повинной. Элисео, Медардо и Росаура кое-как доплелись до ее дома. Упрямая вдова не вышла, а Обалдуй передал, чтобы они «немедленно вернули Лечусапампу и Вадопуну» (теперь еще и Вадопуну!). Они предложили тысячу монет. Обалдуй засмеялся и закрыл двери. У Элисео хватило ума сразу уехать в Оройю, а родня его слишком любила свою землю. На той же неделе у них отнялись ноги, сидят – а не встанут! Вот мы и подумали, когда река захромала, что это ей мстит за что-нибудь вдова. Только вы, дон Раймундо, твердили свое:
– Нет, не ее это дело!
– А чье же?
Тогда вы посмотрели на нас с гневом, с досадой, с жалостью, которые застилают иногда ваш взор, и сказали:
– Все знают, кто наводит немочь.
Мы, однако, решили пошвырять камни в дверь колдунье. Дон Магно Валье это одобрил, власти не возражали, и мы пошли швырять. Ответом был хохот. Мы разозлились, потом испугались навалились всем скопом на дверь, чтобы разом расстаться с долгами, но потревожили одних лишь пауков. Вечером дон Калисто сказал, что накануне встретил бесову подружку в поместье Чинче, где она, по просьбе сестры сеньоров Лопес, варила зелье для неверного жениха. А к концу недели Котрина клялся, что в тот самый день вдова собирала травы неподалеку от Туей. Шел конец октября, а может – декабря… Полили дожди, Чаупиуаранга напилась вволю и стала как озеро. У бережка шлепали, радовались дети. Ущелье, разделившее две горы, исчезло под зеркалом вод. Мы руками развели. Из Успачаки пришла комиссия и установила, что «озеро пожирает земли», но дон Эрон де лос Риос, алькальд Янауанки, ответил:
– А вам-то что? И озеро, и речка – все вода!
– Оно верно, – поддакнул Атала, бывший сержант.
– Зато никого не унесет! В прошлом году из Успачаки двух деток водой утащило. Помните? Теперь хоть бояться не надо, пускай себе купаются на здоровье.
– Правда ваша, дон Эрон.
Ясное дело, так лучше. Да и мы попривыкли. Берега заросли, не пройдешь. Где раньше крутился водоворот, теперь стояла ряска. Нет худа без добра! Как-то прибегает мальчишка и кричит:
– Утки!
Пошли мы поглядеть – и верно, крякают целой стаей! Так и пошло, стая за стаей прилетали, только и слышишь, как крыльями хлопают. В кладовых проснулись ружья, и всех нас потянуло на утятину с рисом. Алькальд Янауанки совсем развеселился:
– Говорил я вам, к лучшему это! Утятина с рисом, да под пиво…
– Ах, хорошо, дон Эрон! – ликовал Атала.
Один дон Раймундо Эррера молчал и хмурился. Как-то собрались мы на охоту, а он и скажи:
– Трусы вы, трусы! – И пошел себе к лошади, но обернулся и прибавил: – За трусость свою станете утками!
Уткой никто не стал, куда там, очень мы поздоровели. Кладовые набили битком и ни о чем не беспокоились. Правда, Матиас Гойо, наш могильщик, ворчал, что такая тишь не к добру. Обижался он, гробы у него подгнивали. Чтобы он не мозолил глаза (как же так, один могильщик и захиреет до смерти?), городской совет назначил его садовником. Площадь в Янауанке – голая, на ней ни кустика нет, но ради спокойствия мы слова не сказали. Даже сам Гойо и тот обрадовался. Только дон Раймундо по-прежнему громил равнодушных и твердил, что эта тишь выйдет нам боком. Но кто его слушал? Глава общины не пил, не плясал и наводил на всех тоску.