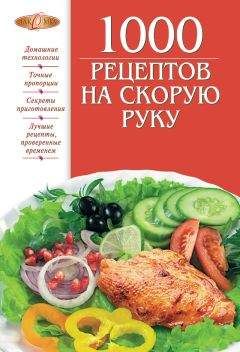Паоло Джордано - Черное и серебро
Синьора А., согнувшаяся под бременем своих шестидесяти восьми лет, замирает, чтобы не испугать пристально глядящую на нее птицу. Таких птиц она никогда не видела. Размером похожа на сороку, но совсем другой расцветки: вокруг шеи, до самой грудки, лимонно-желтые перышки, которые растворяются в голубизне спинки и крыльев, длинный белый хвост, а на конце – загнутые, похожие на рыболовные крючки, перья. Присутствие человека птицу ничуть не пугает – наоборот, синьоре А. кажется, будто птица специально села поблизости, чтобы ею любовались. Сердце синьоры А. бьется сильнее, почему – она и сама не знает, колени подгибаются. Она гадает, не принадлежит ли птица к редкому и ценному тропическому виду, не сбежала ли она из клетки коллекционера: в Рубиане таких птиц никогда не водилось. Да и коллекционеров, насколько известно синьоре А., в Рубиане нет.
Птица резко опускает головку и принимается пощипывать клювом крыло. В ее движениях есть что-то лукавое… Нет, не лукавое, не совсем так, а, как бы это сказать… заносчивое. Почистив крыло, птица вновь глядит своими черными глазками прямо в глаза синьоре А. Трепещут прижатые к телу крылья, два медленных вдоха вздымают грудку. Наконец, беззвучно оторвавшись от камня, птица взлетает. Синьора А. следит за ней взглядом, рукой прикрыв глаза от солнца. Ей хочется получше разглядеть птицу, но та быстро исчезает среди растущих неподалеку каменных дубов.
Она снова увидела эту похожую на попугая птицу – на этот раз во сне. Когда она рассказала мне об этом, она уже тяжело болела, – трудно было различить, что произошло на самом деле, что ей почудилось, а что было самовнушением. Но все-таки я склонен верить тому, что на следующее утро синьора А. решила поискать изображение птицы в книжке о фауне долины Сузы, которая была у нее дома – она мне эту книгу показывала. Верю и тому, что, не обнаружив там своей птицы, она отправилась к приятелю – художнику, страстному любителю птиц, – об этом визите она рассказала во всех подробностях.
Я так и не понял, какие отношения связывали ее с художником. Говорить об этом она не любила – возможно, из скромности, потому что художник был знаменитым – самым знаменитым из тех, с кем она общалась после смерти Ренато, или она просто его ревновала. Я знаю, что иногда она готовила для него, выполняла его поручения, по сути, была кем-то вроде компаньонки, другом, с которым он коротал время. Думаю, они виделись чаще, чем давала понять синьора А. Каждое воскресенье после мессы она заходила к нему и оставалась до обеда. Вилла художника с ярко-красным фасадом, спрятанная за высокими буками, находилась в трех минутах езды или пяти минутах ходьбы от дома синьоры А., у асфальтированной дороги, описывающей полукруг.
Художник был карликом: она не стеснялась так его называть и произносила это слово не без ехидства. Много лет спустя она призналась, что всю жизнь, думая о нем, задавала себе глупые вопросы, например, каково это – сидеть, не доставая ногами до пола. А еще она не могла оторвать глаз от его рук – от толстых, немного смешных пальцев, умевших творить чудеса. Художник был единственным мужчиной, на которого синьора А. – ростом чуть выше метра шестидесяти – смотрела сверху вниз, однако он был наделен таким могучим, непобедимым очарованием, что ей казалось, будто не она, а он возвышается над ней. Заходя к художнику в гости, она располагалась в гостиной, превращенной в мастерскую, и там, среди картин и рам, словно возвращалась в то прошлое, когда Ренато брал ее с собой осматривать подвалы и чердаки в поисках редких забытых вещей.
– Наверное, это удод, – предположил художник тем поздним августовским утром.
Художник был брюзгой, причем в последнее время он брюзжал еще больше, чем прежде, но синьора А. привыкла не обращать на это внимания. Раньше, объяснила она, на вилле было полно галеристов, приятелей и позировавших художнику раздетых девиц. Теперь к художнику приходили всего четыре женщины, приезжие, – они работали по очереди, ухаживали за ним, правда, ни одна из них не была настолько красива, чтобы ее стоило увековечить на холсте. Синьора А. знала, что художник целыми днями думает о прошлом, что он больше почти не пишет картин, что он одинок. Совсем как она.
– Мне прекрасно известно, как выглядит удод. Никакой это не удод, – сухо возразила синьора А.
Художник спрыгнул с кресла и исчез в соседней комнате. Синьора А. принялась разглядывать гостиную так, будто не знала ее как свои пять пальцев. Ее любимая картина стояла на полу – незаконченная. На ней была изображена обнаженная женщина, сидящая у столика: красивые, чуть расходящиеся в стороны груди, широкие соски – их розовый цвет был намного глубже, чем розоватый оттенок кожи. Перед женщиной лежали нож и четыре алых персика, – вероятно, она собиралась их очистить. Но не очистила. Женщина навеки замерла, словно ожидая подходящего момента.
– Это была лучшая его картина. И знаешь, в тот день он дописал ее у меня на глазах, за полчаса. Потом спросил: «Ты на своем драндулете прикатила? Тогда забирай». Он поступил так, потому что ему было жалко меня. Почему же еще. Попроси я у него картину, он бы мне ее не отдал. Но он все понял. Раньше других, раньше врачей. Понял, потому что я рассказала ему о птице. Он вернулся в гостиную с кожаной папкой и положил ее мне на колени. «Эта?» – спросил он. Я сразу ее узнала, по загнутым белым перьям на хвосте. Он не встречал таких птиц уже много лет, по крайней мере, с 1971 года. Думал, вымерли. А вышло так, что райская птица прилетела ко мне. Ее так называют – райская птица, хотя она приносит несчастье. Я сказала ему: «Мы с тобой уже старые. Какие у нас могут быть несчастья?» Только подумать: за несколько дней до этого я разбила зеркало. А художник как взовьется. «Какое еще зеркало! – закричал он. – Эта птица приносит смерть!»
Однажды я спросил у Норы, верит ли она в историю с птицей – предвестницей смерти. Она ответила вопросом на вопрос:
– А ты?
– Конечно нет.
– А я – конечно да. В этом мы с тобой никогда не сойдемся.
Был уже поздний вечер. Эмануэле спал, мы, не спеша, убирались на кухне. На столе мы оставили открытой недопитую бутылку вина.
– В чем тебе ее сильнее всего не хватает? – спросил я.
Нора ответила, не раздумывая, словно ответ уже был готов:
– Мне не хватает того, как она заражала нас смелостью. Люди не любят делиться смелостью. Им только хочется убедиться в том, что у тебя смелости еще меньше.
Нора надолго замолчала, повисла пауза. Я так и не научился понимать, естественны ли ее паузы или она тщательно отмеривает их, как актриса.
– А она – нет, – прибавила Нора. – Она всегда за нас болела.
– Ты мне так и не рассказала, о чем вы говорили все время, которое ты пролежала в постели.
– Мы много разговаривали?
– А то.
Нора глотнула вина из бутылки. Только вечером, когда мы остаемся одни, она позволяет себе подобную бесцеремонность, словно усталость и наша близость отменяют все запреты. Вокруг губ остался красноватый след.
– Она говорила, – сказала Нора, – а я слушала. Рассказывала мне про Ренато, он возникал, о чем бы ни заходила речь, словно он еще жив. Я уверена, что дома, одна, она разговаривала с ним вслух. Она призналась, что по-прежнему накрывает для него на стол, хотя прошло столько лет. По-моему, это очень романтично. Романтично и немного смешно. Но в романтичном всегда есть что-то смешное, нет?
Каждый вечер, особенно в первые месяцы после смерти синьоры А., мы с Норой вели подобные разговоры. Это помогало нам не поддаваться растерянности: мы вновь и вновь все проговаривали, растворяли растерянность в словах, пока нам не начинало казаться, будто наши слова – прозрачная вода. Синьора А. была единственным свидетелем наших каждодневных усилий, единственным свидетелем, знавшим, что нас связывает; говоря о Ренато, она словно пыталась что-то нам подсказать, передать то, что осталось от их истории любви – прекрасной и незамутненной и при этом недолгой и несчастливой. Вообще-то всякой любви нужно, чтобы кто-то ее увидел, узнал, подтвердил, иначе любовь можно принять за мираж. Теперь, когда взгляд синьоры А. не был обращен на нас, мы чувствовали себя в опасности.
И все-таки на похороны мы опоздали. Собрались мы вовремя, но потом занялись какой-то ерундой, словно то, что нам предстояло, было одним из множества дел. Эмануэле вел себя особенно беспокойно, капризничал, все спрашивал, что это такое «отправиться на небеса», как так может быть, что человек уходит и больше не возвращается. Он знал ответы на эти вопросы, для него они были просто предлогом, чтобы выплеснуть возбуждение (для ребенка первые похороны – разве это не нечто удивительное?), но мы не были склонны потворствовать ему. Мы просто не обращали на него внимания.
По дороге в церковь семейное единство рухнуло окончательно. Нора ругала меня за то, что я поехал самым длинным путем, я принялся перечислять все бесполезные дела, которые она переделала, прежде чем выйти из дома, – например, накрасилась, будто на похороны принято приходить в макияже. Будь с нами синьора А., она бы сразу отыскала в своей коллекции нужную фразу, чтобы заставить нас замолчать, но, защищенная от всего мира сосновыми досками, она спокойно ждала нас на отпевании.