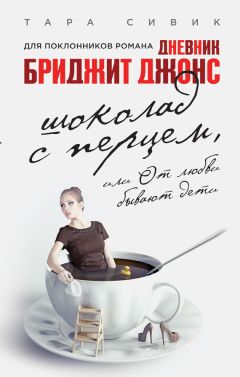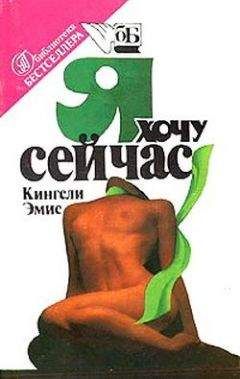Кингсли Эмис - Эта русская
– Ты обязательно должен почитать мои стихи не торопясь. Вряд ли они тебе понравятся, но мне кажется, ты сможешь понять, что именно они собой представляют, о чем я пишу, что хочу сказать, когда вообще хочу что-то сказать. – Сейчас трудно было себе представить, что она совсем недавно говорила о том, что «ее поэзия» – это лишь увлечение и забава. И будто чтобы усилить мрачное впечатление, она прижала локти к бокам и стиснула руки, словно старушка в платочке и длинной ветхой шубейке перед дверями русской тюрьмы, – для полноты картины не хватает только снегопада.
Ричард, впрочем, был до определенной степени знаком с таким типом женского поведения.
– Да, – сказал он, скептически качая головой. – В конце концов, я ведь должен буду говорить со знанием дела.
– Говорить? С кем? Я не понимаю.
– Говорить с теми, кто согласится поддержать тебя и твои стихи. Чтобы добиться освобождения твоего брата. – Когда он произнес эти слова, до него в полной мере дошла абсурдность всей этой затеи. Какой идиотизм – согласиться в ней участвовать. И кажется, она вчера упомянула, что через три недели должна вернуться в Москву?
– Мне показалось, что ты не хочешь в это ввязываться.
– Почему? – Голос его звучал механически. – Потому что мне не нравятся твои стихи? Но ты сама только что два раза повторила, что для тебя это не имеет никакого значения.
– Но для тебя-то имеет. И вообще я не об этом. – Анна словно бы стряхнула хмурость и улыбнулась. – Ты, наверное, подумал, что я на тебя сержусь или, может, жалею саму себя. Ну да, я себя жалею, но не в этом дело. Я должна тебе кое-что сказать, и если ты чувствуешь передо мной какие-то обязательства, может быть, тогда тебе будет легче от них отказаться. А ты наверняка чувствуешь, потому что ты порядочный человек. Настолько порядочный, что я должна все тебе выложить прямо сейчас. Мой братец, который сидит в московской тюрьме, – далеко не порядочный человек. Я тебе говорила, что он действительно виноват в том, в чем его обвиняют? Так все и есть. И не только в этом. Вся эта авантюра с петицией – идея моей мамы. Боюсь, она меня переоценивает. Моего брата она тоже переоценивает, правда, в другом смысле. Он… он совершенно безответственный человек, Ричард, как мне ни жаль, и он недостоин твоей помощи, поэтому я вообще не должна была тебя ни о чем просить. Будь я такой же честной и бескорыстной, как ты, я бы посоветовала тебе прямо сейчас отказаться от этой затеи.
Ричард уже был готов услышать все, что угодно, что Аннин брат – наемный убийца, соложник Горбачева и вообще на самом деле ее муж.
– Понятно, – проговорил он.
– Ты слишком легковесно к этому относишься. Тебе ведь, наверное, встречалась эта русская пословица; «Где одна гадюка, там и гадючье гнездо».
– Еще бы. А сколько человек в Англии знают эту часть истории?
– Я думаю, профессор Леон обо всем догадался. Или по крайней мере чувствует, что здесь что-то не так. Больше никто, я уверена.
– То, что твой брат… преступник, похоже, не ослабило твоей решимости.
– Ни в коей мере. Я ведь не пытаюсь добиться для него кассации или амнистии, просто хочу, чтобы его выпустили, раз он уже отсидел положенный по закону срок.
– А эта часть истории именно так и выглядит? Никаких дополнительных обстоятельств? Ничего другого?
– Нет, это чистая правда, и ничего больше, – все именно так, как я тебе сказала.
– Понятно, – повторил Ричард. – Ты, кажется, говорила профессору Леону о каком-то списке, видимо, тех людей, с которыми надо связаться. Итак?
Анна бросила на него серьезный и признательный взгляд и вытащила из верхнего кармана своей темно-коричневой хламиды сложенный лист бумаги.
– Я начала его составлять по совету Андреаса. Кое-что он сам дописал. Сегодня утром я встречалась с человеком из Русского общества, он тоже помог.
Список состоял из неопределенных официальных титулов, вроде «директор Би-би-си» и имен, которых Ричард никогда не слышал. Подумав, он добавил Британскую культурную ассоциацию (Дональд Росс). Вся эта затея по-прежнему вызывала у него тоску.
Пока он раздумывал, Анна проговорила:
– Прежде чем ты уйдешь, я должна подарить тебе книжку моих стихов. Даже если ты не станешь их читать, мне хочется, чтобы они у тебя были. Мне хочется, чтобы у тебя было что-то мое. – Она ненадолго задержала на нем взгляд, но этого хватило, чтобы он понял: она увидела, что именно он увидел в ней немного раньше. – И я думаю, тебе тоже хочется иметь что-то мое.
– Да, этого мне очень хочется.
Она улыбнулась:
– А ты здорово умеешь отмалчиваться. Я думала, здесь этому не учат, а? Выходит, учат.
Глава шестая
В гостиной у Корделии, у высокого и узкого окна возле двери, стоял антикварный столик, сиречь столик, немного побитый временем, но вознагражденный за это темным колером и отменной полировкой. Корделия обычно говорила, что это столик эпохи Вильгельма IV, иногда сбиваясь и выговаривая «Вильгельма и Марии», – возможно, имея в виду некую малоизвестную морганатическую шалость Короля-мореплавателя.[2] В любом случае она, Корделия, обожала такие очаровательные вещички, к какой бы эпохе они ни относились. Иногда она говорила, что это единственная роскошь, которую она может себе позволить.
Значительную часть столешницы занимала большая, наполовину сложенная головоломка. Когда все части встанут на свое место или задача будет признана неразрешимой, головоломка будет рассыпана, засунута обратно в коробку и вручена поденщице, чтобы та ее кому-нибудь отдала, а на столике появится новая. Столик совершенно не случайно был поставлен при входе – хозяйка шуточным предупреждением или немым неодобрением удерживала здесь всех входящих, пока они не добавят хотя бы один кусочек к готовому фрагменту. Процедура могла затянуться на минуту-другую, потому что Корделия, разумеется, сама складывала все интересные и незамысловатые части, оставляя гостям небеса и водную гладь.
Рядом с головоломкой стояла шахматная доска – судя по положению фигур, игра была примерно в середине. Фигурки, выточенные на станке из какого-то плебейского дерева году примерно в шестидесятом, не могли тягаться с остальными предметами обстановки, однако безошибочно наводили на нужную мысль. Эти старые Ричардовы шахматы уже давно не использовались для нормальной игры, однако до недавнего времени Корделия расставляла на доске шахматные задачи из «Ивнинг стандарт» или из специального сборника, который держала под рукой для этой цели. Решить задачу ей удавалось редко, вернее, не удавалось никогда, но шахматы со стола не исчезали. С ними соседствовал свежий номер «Тайме», свернутый таким образом, чтобы выставить на обозрение кроссворд – еще один намек на интеллектуальные занятия, – и приходящие гости иногда брали его в руки, хотя вид анаграммы из четырнадцати букв, из которых угадана была лишь пара гласных, обычно заставлял их тут же положить его на место. Впрочем, в конце концов, должна же паскудная газета где-то лежать, как однажды сформулировал это про себя Ричард.
Большую часть дня Корделия проводила не в гостиной, а в своем кабинете на втором этаже. Она сидела лицом к окну за своим рабочим столом, вернее, за письменным столом из совершенно определенной породы дерева, относящимся к совершенно определенному царствованию. За окном – кстати, единственным в доме, которое можно было открыть и закрыть без всякого усилия, – она видела просторы парка, усеянного человеческими фигурками. Случалось, она вдруг начинала пристально следить за передвижениями той или иной фигурки, иногда даже с улыбкой, однако интерес ее угасал так же быстро, как если бы она следила за рыбкой в аквариуме. У нее была привычка бормотать себе под нос, когда она оставалась одна или на чем-то сосредоточивалась; бормотание состояло из пояснений к тому, что она делает, или соображений о том, что станет делать в ближайшее время.
Прямо перед ней были аккуратно разложены и расставлены ежедневник, записная книжка с телефонами, телефонный аппарат, снабженный всеми новейшими выдумками, и картонная доска, к которой крепились всякие нужные бумаги, вроде открыток, проспектов, писем, страничек из блокнота. Больше, как и обычно, ничего. Годфри в свое время обратил внимание Криспина на эту относительную пустоту, заметив, что у деятельных людей на столе всегда чисто, а Криспин ответил, что любопытным образом тот же самый принцип действует и в противоположном случае, а Годфри, судя по всему, не понял, – как, впрочем, и Ричард, который, когда настал его черед, притворился, что не слышит.
Бормоча себе под нос и хмуря брови, Корделия отыскала в записной книжке телефон, поразглядывала его с сокрушенным видом, а потом одну за другой придавила нужные кнопки кончиком полупрозрачной ручки – это было не так удобно, как пальцем, зато выглядело куда более профессионально, по-деловому. Когда после шести-семи гудков затребованный персонаж не откликнулся, она дала отбой, – это был ее коронный жест. Она набрала еще два номера, с тем же самым результатом, заставив в общей сложности двоих своих знакомых замереть на полном ходу, с рукой, протянутой с двухметрового расстояния к внезапно умолкшему аппарату. Первый знакомый, который примчался из уборной, натягивая на плечи подтяжки, проревел: «Опять эта сука Корделия! Чтоб ей сдохнуть!», вторая знакомая, дама за сорок, которую звонок оторвал от кухни и от приготовления сметанного соуса, только улыбнулась, возвела очи горе и проговорила: «Слава Богу, на свете только одна Корделия», на что ее супруг хмыкнул: «Ты в этом уверена?» Впрочем, хмыкнул он, так и не вынырнув из-под «Дейли телеграф».