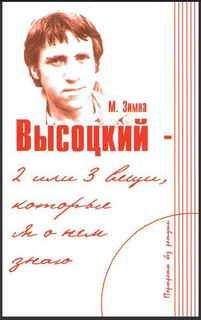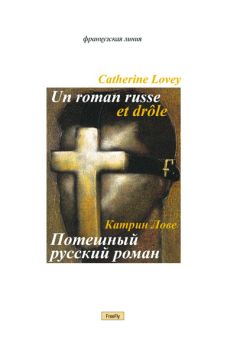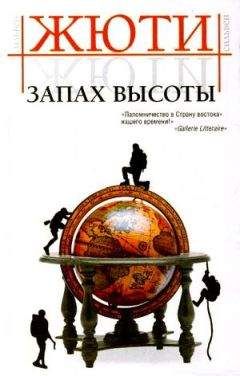Сильвен Жюти - Запах высоты
Забавно, но у этого перевала нет названия. В день, когда мы собирались его перейти – нам предстояло подняться выше пяти тысяч метров, – небо тускло светилось бледным молочно-голубым светом, грязным как старый снег, и, конечно, гребни гор были почти не видны. Солнце не вышло, вместо него в небесах дрожал двойной расплывчатый ореол, окружавший туманное пятно. Прошлогодний зимний снег, такой же нечистый, как это небо, еще не растаял, и только кое-где робко проглядывали полоски земли, сквозь которую неуверенно пробивалась прибитая морозом бурая чахлая травка. Я весь день занимал себя попытками угадать, почему одно место уже без снега, а другое – все еще нет. Желание понять или, точнее, постараться понять природу всегда было моим увлечением. Иногда это очень легко: север или юг, подъем, спуск, близость воды или голых камней, нагретых солнцем, защита от ветра, которую дает крутой откос. Иногда это совершенно необъяснимо. Я спрашивал себя, возможно ли, что кочевникам известно об этом больше, чем мне. Это вполне вероятно: несомненно, что им нужны знания такого рода, чтобы пасти свой скот, ведь тут каждая былинка – драгоценна.
Подъем был незаметен. Земля и небо неподвижно застыли, слившись на горизонте. Мы двигались в сердце высочайших гор земли, но не чувствовали этого; казалось, сейчас мы могли бы шагать где угодно, в любом другом месте. В пути нам больше не попадалось ничего живописного, пейзаж источал глубочайшую скуку; пора б уже было показаться Сертог.
Единственное, что нарушало нереальное однообразие этой картины, была длинная колонна носильщиков, бредущих по дороге, – настолько длинная, что конец ее терялся из виду.
Носильщики шли босиком. Накануне им была роздана обувь, Клаус, разумеется, предупредил их, что дальше нам придется идти по снегу. Но удивительное дело – тут же началась странная торговля: многие продавали или отдавали свои башмаки, наверное, в уплату за долги. Другие несли их повесив на шею. Деньги, которые они рассчитывали выручить за эту обувку, куда важнее для них, чем их огрубевшая израненная, омертвевшая кожа; во всяком случае, их плоть привычна к страданию: так они зарабатывают себе на хлеб – физической болью.
Было холодно; и кожа их посинела от мороза.
Сначала дорога была почти не хожена. Правда, по пути мы заметили несколько следов. Это оказались монахи: они шли нам навстречу, возвращаясь из монастыря Гампогар Дзонг; мы вчера наткнулись на них, впервые попав на фирн:[40] двое стариков и мальчишка, без конца перебиравший сто восемь янтарных зерен своих четок. Их мулы паслись неподалеку. Увидев нас, они широко заулыбались, обрадовавшись, но нисколько не удивившись нашему появлению. Северный склон, на котором они застряли, был скован смерзшимся скользким снегом, так что их мулы никак не могли по нему пройти. Не в силах расчистить им путь, они просто сидели и ждали, пока не случится какое-нибудь чудо: и вот пришли мы. Они дожидались уже три дня. После того как длинная вереница наших носильщиков прошла по этому снегу, размолов его своими ногами, мулы смогли наконец безопасно спуститься вниз.
След от колонны оставил на снежном насте глубокую гладкую траншею, плоскую как дорога. А снег рядом с ней усеяла неровная цепочка маленьких узких точек: отметин от палок, на которые опирались наши кули.
Если бы не пирамидки, сложенные из валунов, и не ленты молитвенных флажков, обозначившие верхний конец перевала, я даже и не заметил бы, что он уже кончился: крутизна тут совсем не ощутима. Тут же лежали камни, расписанные по-тибетски: их называют мани, потому что на них выбивают священную мантру «Ом мани падме хум». Я удержал себя от желания прихватить один на память по двум соображениям: с одной стороны, было бы логичнее взять его на обратном пути; с другой – я опасался совершить святотатство. Вечером я заговорил об этом с моими спутниками. Мы поспорили. Даштейн благоразумно рассудил, что раз это – молитва, то унести ее отсюда и отправить блуждать по миру как раз и будет святотатством. Но тут вмешался Клаус, добавив, что именно такова роль этих лент – «коней ветра».[41] – и объяснил, что эти символы обретают истинное свое значение как раз тогда, когда полоски ткани плещутся на ветру, выпуская на волю обрывки молитв, которые на них начертаны; ту же роль играют и знаменитые молитвенные мельницы. Я не менее здраво возразил, что положить мани на каминную полку в гостиной и просто любоваться им как красивой безделушкой и означало бы осквернение и, вероятно, лишило бы его всякого действия. Даштейн на это ответил: нельзя совершить большего кощунства, чем лишить молитву ее силы. Главный вопрос, заключил он, в том, чтобы понять, можно ли убить молитву? А фон Бах вовсе не принял участия в разговоре, возможно, потому что он ему не нравился.
На обратном пути у меня будут другие заботы.
Мы так и не увидели ничего интересного, Сертог тоже не появлялась.
Спуск оказался таким же пологим, как и подъем. Один носильщик умер от холода и усталости, а может, от болезни. Товарищи похоронили его тут же, на месте. Конечно, они предпочли бы сжечь тело, но где взять дрова? Во всяком случае, они не пожелали оставить его без погребения – придав ужас от одной мысли поступить по тибетскому обычаю: те, как им известно, просто бросают трупы на поживу коршунам и стервятникам. Нам пришлось задержаться и дать им время совершить их импровизированный скромный ритуал. Продолбить смерзшуюся почву было невозможно, а на то, чтобы набрать камней на могилу, ушло много времени. Тогда мы решили стать лагерем неподалеку. Кругом все еще лежал снег, но спускаться ниже в этот день было уже нельзя. К счастью, небольшая пещерка или скорее углубление за выступом у подножия скалы предоставило нашим кули какое-то подобие убежища. Мы раздали им одеяла, в которые они – по трое-четверо – завернулись. Хвороста, чтобы разжечь костер и сварить рис, у нас не было.
Утром, распределяя поклажу, мы недосчитались пятерых носильщиков. Они сбежали ночью: пробирались ощупью, отыскивая проложенную в снегу дорогу в полной темноте. Пришлось делить оставшийся груз. Все это нас задержало, а едва мы тронулись с места, поднялся туман, и вот тут перед нами впервые предстала удивительная картина.
Как передать это зрелище? Мне знакомы Альпы, Пиренеи, Кавказ, Татры; ходил я и по другим горам и видел много разного: равнины, пустыни, леса и рощи, высокие речные берега, низины и болота. И я могу рассказать о них, потому что тысячи других людей до меня писали об этом и нашли подходящие слова, которые я тоже мог бы использовать. Но эту картину не описал еще ни один человеческий язык. Этот пейзаж был далеким, потусторонним и каким-то сверхъестественным; и мне верится, что именно потому, а вовсе не оттого, что в глазах местных жителей эти горы – священны, проистекала его неоспоримая власть над нами: мы все почувствовали ее, и. гораздо более, чем нам того бы хотелось. И все же я должен попытаться передать эту картину, постаравшись не принизить ее грубыми, неточными словами.
Прежде всего это – открытое ровное место, но на такой высоте – около четырех с половиной тысяч метров – оно перестает быть обычной равниной. Монтескье,[42] который не знал слова «плоскогорье», называл его «горной равниной» и это выражение не так уж плохо: оно отлично позволяет передать ни с чем не сообразный и противоречивый характер этого феномена.
За равниной виднелось нечто совершенно противоположное, противостоящее ей с непостижимой жестокой силой: грозовая туча нависшего над нею скопища далеких и диких вершин, откуда через глубокую трещину медленно, точно нехотя, сбегали два рукава ледника – враждебный всему живому длинный черный язык, раздвоенный, точно жало змеи. По обеим сторонам от него стекали широкие грязно-серые морены[43] и торчали два зуба, с острых краев которых срывались молочно-белые потоки, – и несмотря на громадное расстояние, даже издалека казалось, будто они кипят ключом. В сухом морозном воздухе лед не таял: морщинистые складки морен, медленно колыхаясь, ползли вперед и рассыпались внизу кучкой невысоких взгорков – как волны, разбившиеся у берегов одинокого острова, – а потом умирали, едва коснувшись равнины, на которой высился монастырь, привалившись спиной к каменному хребту нависшей над ним горы. Его очертания вполне уже можно было разглядеть в бинокль: легко угадывались даже ведущие в монастырь лестницы, по которым следовало карабкаться на скалу. Перед ним на охряной ровной поверхности виднелись желтые и зеленые круги: это были поля.
Думаю, все мы были взволнованы – настолько, что никто из нас не смел нарушить молчание, как будто боясь преступить какой-то неведомый запрет. Первым решился на это Клаус:
«Завтра мы наденем лучшую одежду»
Уго произносит это вслух. Не страшно, он – в Лхасе, тут никто не понимает по-итальянски. У него с детства сохранилась эта привычка: произносить вслух слова, совершенно очевидно никак не связанные с происходящим, и однако, какое-то смутное наитие выплескивало их из глубины души на берег сознания – раньше, чем их начинали проговаривать губы. Стать метрдотелем: при мысли о приеме, который ждал его в Лхасе в новехоньком «Хилтоне», ему внезапно вспомнилось это детское желание – оно родилось у него в маленькой гостинице в Доломитах, пока он драил там пол и мыл тарелки. Китайцы старомодны, они любят ритуалы. Мы – тоже, подумал Уго, но мы этого даже не осознаем.