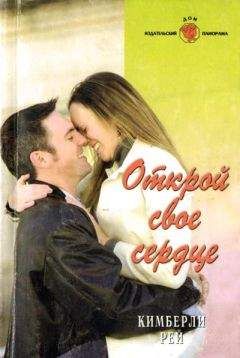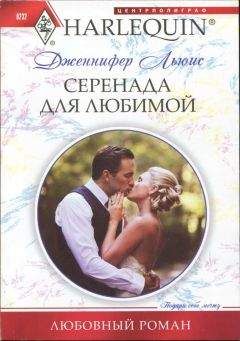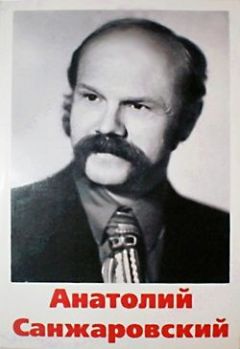Дэвид Духовны - Брыки F*cking Дент
– Прекрати. Не то сблевну.
Тед вытащил из свалки плакат печально известной «ромашковой» кампании 1964 года в пользу будущего президента Линдона Джонсона. Политическая реклама: девочка ощипывает лепестки с ромашки, произносит числа, они превращаются в обратный отсчет ядерного взрыва, учиненного красными в Судный день. Не исключено, что это была первая политически агрессивная реклама в истории телевидения. И уж точно одна из лучших. Леденящая душу агитка. Тед припомнил и изобразил техасский выговор закадрового голоса Линдона Джонсона:
– «Мы должны любить друг друга – или умереть».
– Геббельсу не к чему придраться, пацан, я во время войны держал ухо востро.
– Ты знаешь, как я ненавидел тебя за эту рекламу? Мне было восемнадцать. Если бы мои друзья в Коламбии обнаружили, они бы меня урыли.
– Воткнули бы тебе ебаную ромашку в дуло? Вы были сплошь слюнтяи. Это вот – из того же миллиона мелочей, за которые я должен, извиняться?
Тед почуял, как его тащит старым семейным отливом в ссору, но успел поймать себя – и отца заодно, – успел увидеть перед собой человека, маявшегося человека. Марти часто казался Теду дешевой поделкой-Иисусом, какие попадаются в витринах магазинов в Вашингтон-Хайтс или в не на шутку католических районах города. Смотришь на такого Иисуса, склоняешь голову набок, чуть-чуть, и выражение лица у Сына человеческого меняется. Китч невыносимый, но завораживает. Иисус под «черной» лампой. Тед положил это в мысленную папочку годных названий для музыкальной группы. Дамы и господа, сомкните длани – «Иисус Черной Лампы»! Тед как-то раз видал такое в студгородке Коламбии: отводишь взгляд на миллиметр – и Иисус превращается в Сатану. Иисус. Сатана. Иисус. Сатана. Так же и Марти – то благой, то пагубный, туда-сюда. Папа. Человек. Папа. Человек. Тед осознал, что на самом деле Марти как человек – где-то посередине, между крайностями, но никак не мог его там засечь, не дать ему переключаться туда-сюда со спасителя на обвинителя. Тед решил пока сосредоточить взгляд на человеке – человеке, которому больно. Похлопал отца по плечу:
– Писать за деньги – не позор, Марти. Есть на что еду брать.
– Есть на что в колледж тебя засунуть.
– Есть на что в колледж меня засунуть.
– Чтобы ты потом мог швыряться арахисом в пуэрториканцев.
– Чтобы я мог швыряться арахисом в пуэрториканцев.
– Ну, по крайней мере, одно было правдой: мы, «курильщики “Тарейтона”, будем драться, но марку не сменим»[138].
– Может, вот это стоило бы продумать получше.
– Ты «удар держал и дальше шагал»[139], дорогой мой человек.
– «Человек в рубашке “Хэтэуэй” – только так»[140].
– Ты «заслужил сегодня передышку»[141]. – Марти умолк. – Дай мне передохнуть, Тед. – Марти потрепал Теда по голове. – Спалим все, – объявил он. – Награду за совокупность пожизненных незаслуг впервые в этом году получает пара, тандем отца и сына из Бруклина, Нью-Йорк…
Марти швырнул в огонь еще журналов, опрыскал их горючкой и притих. Тед приметил, что Марти припас пакет маршмеллоу – причудливо завершить самоистязательное сожжение. Дальше Марти говорил очень тихо, не сводя глаз с плясавшего пламени:
– Думаешь, мне одному нужно прощение, Тед? На тебя жизни еще хватит, а ты даже не знаешь, что с ней делать. Молил бы меня о прощении. Я тебя сотворил.
Спаситель. Обвинитель. Спаситель. Обвинитель.
– Верно, ты меня произвел, а также, может, «то самое пиво, какое нужно, если берешь больше одного»[142]. Хочешь и меня сжечь со всем остальным твоим паршивым выхлопом?
Тед подобрался к камину и сунул руку в огонь. Марти завопил:
– Нет! Рука! Твоя прелестная ручка!
Тед показал Марти руку – он лишь хотел прикурить косяк, а не устроить себе средневековое само истязание.
Ул ыбн у лс я, сделал глубокую затяжку и, пока держал дым, протянул самокрутку отцу.
– Травка. Нет. Ни за что. Я на таблетках.
– Да ладно, пап, чуть-чуть не повредит… Это называется «давление общественного мнения», старичок. Все крутые папашки делают это. Вот как нынче, в семидесятые, восстанавливают отношения отцы и дети.
– Ты всегда укурен, сынок?
– Не всегда, но я к этому стремлюсь, да.
В доме что-то послышалось – словно электрический шок, словно сигнал неверного ответа в телевикторине, умноженный на десять. Теда тряхануло.
– Что за херня? Пожарная сигнализация?
– Дверной звонок.
– Это дверной звонок? По звуку так прямо конец света.
Тед оставил Марти у огня и пошел глянуть, по какому поводу конец света.
23
Открыв дверь и обнаружив за ней Мариану, Тед первым делом подумал: «Я не знаю, во что одет». И не стал себя оглядывать. У него было скверное ощущение на сей счет, подтверждать его не хотелось, и потому он упер взгляд в гостью, а та сказала:
– Привет, Теодор.
Теду показалось, что он помнит затянувшийся торг, который завершился соглашением, что называть его надо Тедом. А может, и нет.
– Привет, сестра смерти.
– Консультант в горе.
– Привет, консультант смерти.
Она терпеливо улыбнулась, но не поддалась ни на уловку, ни на чары.
– Как мило, что вы приехали побыть с отцом.
– Как мило, что вы… несете… смерть, ну, в смысле, на дом, обходы делаете, кхм.
– Надолго вы?
Тед осознал, что ему до зарезу хочется пустить пыль в глаза этой женщине – сосиски есть на скорость, например, – и покачал головой: он понимал, что этой мысли тут не место и не время. Ответил:
– Знаете что, да сколько потребуется. Я такой вот человек. Благодетель. Это мое. Я делаю благо.
– Вы – благодетель.
– Угу. – Он уставился в ее темно-карие глаза – в них были крапинки янтарного и орехового, словно прожилки в драгоценном камне, что намекают на сокровища, скрытые внутри. Ему по-прежнему хотелось сказать ей, что он ради нее сосиски готов жрать, пока не лопнет, но прикусить язык ума хватило.
Она сказала:
– Ух ты, смотрите-ка. У вас отцовы глаза.
Тед почуял, что Марти ей очень нравится и что быть на него похожим, вероятно, в кои-то веки неплохо.
– Ну, думаю, я на пятьдесят процентов – он, в гинекологическом смысле.
Тед почувствовал перемену погоды. Будто сказал что-то странное, но не понял, что именно. Попытался проиграть в голове, что именно сказал, но слышно было плохо.
– Вы хотели сказать «в генеалогическом смысле».
– Да, я так и сказал.
– Вы сказали «в гинекологическом».
– Нет, не сказал.
– Сказали-сказали.
– Это вы так сказали.
Боже, какой идиотизм. Ему что, четыре года? Возможно. Он заметил их отражение в зеркале в прихожей. Ее он увидел первой, и его поразил этот профиль напротив – другой человек, красавица, да, но появилось новое измерение, глубина, скрывавшая столько же, сколько являвшая. А следом увидел себя. На нем были старые пижамные штаны нью-йоркских «Янки», доходившие до середины голени, на манер кюлотов. Что надо вид. Пузо… с пузом он сейчас не готов был разбираться совсем и потому взялся за патлы, бля. Сгреб их в горсть и закрутил в подобие узла. У линии волос заявил о себе пот.
– Вы сказали, что вы на пятьдесят процентов ваш отец, «в гинекологическом смысле». Похоже, придали новую глубину обороту «яблоко от яблони…».
– Ужас какой. Нет. Ни в коем случае. Но в любом случае, если мы об этом… уверен, я куда больше пятидесяти процентов. Это не… скажем так: я – противоположность пятидесяти процентов, что бы это ни значило, вероятно, как… Иисус. Как показывает абак у меня в голове.
– Какую-то новую математику вы разрабатываете.
– Можно я закрою дверь, вы постучитесь еще раз и мы все это проделаем заново?
Предполагалось, что это может показаться забавным, – предполагалось и то, что оно может забавным не показаться совсем, что, может, это валун над пропастью и покатиться он может куда угодно – и в землю обетованную, и ему на голову.
– Вероятно, я оговорился.
– Как утверждал Фрейд, случайностей не бывает.
– Ой, разыграли карту с Фрейдом, ладно, круто. Хотите, чтоб я отбился Юнгом? Или даже вытянул Отто Ранка[143]? – На этом можно было бы и соскочить, неплохой вброс, но Тед решил милосердно добить: – Фрейд-шмейд.
Во как. А зря. Его милосердно добивать не стали.
– Отомстили, угу. Чем это пахнет?
– Моим позором?
– Ваш позор пахнет, как маршмеллоу.
Мариана, озабоченная гарью, протиснулась мимо Теда в дом. Понеслась к источнику дыма, на третий этаж, Тед карабкался по лестнице следом, голова – в нескольких дюймах от ее восходившей задницы. Тед готов был подыматься по этой лестнице весь день напролет. Это еще что за чертовщина? Ой. Ой. Он почувствовал, как зародился стояк, а Тед и не помнил, когда с ним такое последний раз случалось. Весной 1976-го? Что-то было с парусниками и пьяной женщиной (возможно, трансвеститом) в Куинзе. А, ладно. Хер у него заворочался, как человек, потревоженный во сне, разбуженный шумом за окном, но не уверенный, стоит ли как следует просыпаться и идти проверять, в чем дело. Интересно, подумал Тед, и вновь услышал отцовы слова у себя в голове: «Ты не потянешь». Согласился.