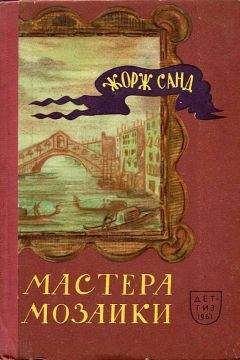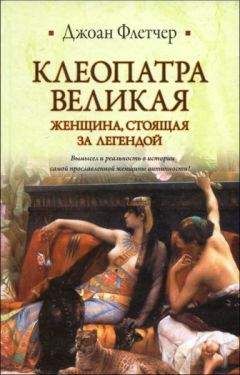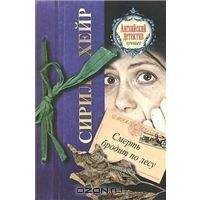Юргис Кунчинас - Via Baltica (сборник)
Осмелев и чуть приоткрыв калитку, увидев за ней ужасающее свое неразумие, ничтожество и нравственное убожество, я, как и многие, содрогнулся от омерзения и испуга и, как почти любой, тут же ее захлопнул, чтобы она потом не распахивалась ни при каких усилиях. Я только просто помнил, где она, эта калитка, и время от времени, страдая фальшивым отчаянием или, напротив, лживой и неустойчивой эйфорией, приближался к ней, даже трогал проржавевший запор, напрягался, предчувствуя, что, собрав все силы, смог бы отодвинуть щеколду, но зная при этом, что никогда не решусь на такое. Зачем?! Чтобы снова встретить притаившихся демонов и самого себя – неузнаваемо мерзкое, терзаемое низменными инстинктами и желаниями чудовище, тварь без совести и достоинства, переполненную лицемерием и пустой меланхолией? Нет, потом я не пытался ни разу прорваться за этот порог – хватило одной попытки! Я догадывался, что гнездится во мне и кто управляет мной, но запертая калитка со временем превращалась во все более прочную, непреодолимую даже для противников крепость, разрушить которую могла бы только всемирная катастрофа: в 1968-м я все еще мыслил вселенскими категориями, механически употреблял слова человечество и прогресс и не был вполне уверен, что все бессмысленно, хотя приличные башмаки и брюки не являлись главной моей заботой. Изредка за калиткой что-то взрывалось и громыхало, я чувствовал скрытую там исполинскую непостигаемую энергию, ощущал, как там накапливается жар, как рвутся наружу – через мнимые трещины – вредоносные, ядовитые, опасные для здоровья и общества испарения. Но я был уверен: калитка выдержит. С другой стороны, тут здесь действовал обыкновенный инстинкт самосохранения. И моя понятная робость, чтоб не назвать ее трусостью: я старался не бросаться в глаза, свои опускал, а чаще всего – отводил в сторону. Будучи даже на сто процентов правым, я не пытался утвердить свою правоту, ибо сила всегда оказывалась не на моей стороне. Как и в случае с той военной кафедрой и моим персональным врагом подполковником Степашкиным, заместителем Вольфа. Степашкин был с виду ладный, моложавый, раньше времени располневший мужчина. Фронтовик, сотню раз доложивший нам о своем участии в захвате Сандомирского плацдарма, и выходило, что этот захват был важнее, чем штурм Берлина. Он преподавал тактику с таким азартом, словно перед ним не филологи, а курсанты академии Генерального штаба. Он выгнал с кафедры всех стариков-литовцев, ветеранов 16-й дивизии. Те изображали интеллигентов и были гораздо приличнее и сговорчивее. Гуманитариев Степашкин вообще ненавидел, меня особенно: и за бороду, и за абсолютное невосприятие тактики, а самое главное – за дерзкое неприсутствие во владениях, где он был царь, и бог, и воинский начальник ! Будь его воля, нас бы всех отправили не в Чехословакию, а куда-нибудь на китайскую границу или на Крайний Север. Под его руководством мы раз в неделю штурмовали безымянные высоты на окраине города, и когда я однажды потерял магазин от Калашникова, мы искали его до сумерек; все проклинали меня, а Степашкин, заявил, что тот магазин выеденного яйца не стоит, и торжествующе улыбался: теперь все осознали, какой ненависти я достоин! И теперь не знаю, что стало бы с его лицом и соломенными ресницами, если бы… Не в силах заснуть, я ночью я лелеял зверские планы, перед которыми, несомненно, поблекли бы злодеяния Гитлера или Сталина: со своими воображаемыми сподвижниками я захватывал военную кафедру, загонял весь персонал в грузовик (который возил нас на учения), выезжал из города и приказывал пленным выкопать яму (ногтями, без всяких лопат); потом приканчивал всех офицеров и весь персонал без изъятия! Страшно, правда? Мне казалось, что это Степашкин со товарищи расстрелял литовских военных в Червени [24] , одним ухом я что-то слышал об этом. И еще мне казалось, будто этот Степашкин может читать мои мысли: он писал на меня Вольфу и в ректорат бесконечные рапорты. Однажды он ненароком – нет, как раз нарочно! – проговорился о своем вкладе в Будапештскую операцию, когда город с трех сторон окружили русские танковые колонны. Деталями той операции меня досыта накормил мой всеведущий двоюродный брат, мужичок с расплющенным, как у боксера, носом, тот самый, которого позже так боялись воспитанники Велючонской колонии. Брата я уважал, и рассказывать он умел, но я понял: в той операции он был просто мишенью для отчаявшегося венгра, который палил во все, что двигалось. Тем временем тактик Степашкин, скорее всего, находился в каком-нибудь погребе или бункере и рисовал багровые стрелы на подробной военной карте, хотя об этом он и не рассказывал. Кто его знает! Может, командовал ротой и тоже мог наскочить на пулю. Но пуля его обошла, и вот Степашкин, участник войсковых операций, с двумя большими звездочками на погонах, преподавал тактику на военной кафедре самого старого университета Восточной Европы. Теперь коротко: Степашкин легко настоял на своем – безо всякой помпы я был удален с военной кафедры и заодно – автоматически – из списков alma mater. Я позднее узнал, что был план исключить еще физика и географа, но потом решено: хватит пока и моего примера. В архивах университета до сих пор пылится мой отнюдь не дурной аттестат зрелости и зачетная книжка с автографами профессоров. А может быть, и другие неизвестные мне бумаги, уличающие меня в лени, апатии, непригодности ни к военной службе, ни к творческой деятельности в условиях зрелого социализма. Действительно: будь я подающим надежды студентом, за меня бы вступились общественные организации или, наконец, элита нашего факультета. Но не вступились. Не увидели смысла. Я не блистал, не подавал надежд. Лишь Магделена Кристиансен (датского происхождения), преподаватель логики, случайно столкнулась со мной во внутреннем дворике, и погладила – или это все показалось? – меня по плечу: «Ну ничего, ничего. Гёте тоже не окончил университета!» После моего исключения коллеги мобилизовались и стали ту кафедру посещать гораздо активнее, чем лекции по специальности. Ведь в их понимании приговор: исключить и передать в ведение Октябрьского военного комиссариата – был равнозначен публичной казни. Это стало недвусмысленным и суровым уроком для всех, склонных к распущенности, пацифизму и не желавших усваивать военные дисциплины. Таковых, как это ни грустно, было заметное большинство.
Однако я непростительно далеко забежал вперед. Когда Rontgenовская установка расположилась в парке под липами, а страсти в Центральной Европе стали понемногу утихать (недостатка в новых горячих точках не было!), я еще был полноправным студентом, проходившим педпрактику в летнем лагере. Потрясенный очевидной изменой. Охваченный сладко грызущим сердце Weltschmerz’e м [25] . Я бы тогда уехал на целину или в Карелию, но эти акции уже завершились, а жаль.
Теперь я уже знаю, что был бы не прав, утверждая, будто Степашкин выгнал меня только из неприязни. Он сделал это из принципа, это произошло бы с каждым, а под рукой оказался я. По правде сказать, если бы не угроза армии, я бы ничуть не расстроился. Подумаешь! Гёте тоже ничего не окончил! Все атеизмы и научные коммунизмы осточертели, а профессиональных амбиций было немного. Но армия! Два года неизвестности и унижений.
Но был тут и личный момент. Тогда я в этом ни капли не сомневался. В середине лагерной эпопеи мы собрали экскурсию и поехали в ближний город, известный лечебными грязями. Всесоюзная здравница. Русские, украинцы, даже представители Севера. Людные улицы, парки и рощи. Очереди к минеральным источникам. Халаты и тюбетейки. Правительственные и общедоступные санатории. Мы с детьми решили поплавать на допотопном, много раз перекрашенном пароходике. Уже перед самой отправкой (все пионеры на верхней палубе!), в самый неподходящий момент (по неотложной естественной надобности!), я возле самой пристани попал в какие-то непролазные дебри. Прямо рядом со мной кишели и перекликались курортники. Я бросился вглубь, стараясь не упускать из виду неясно белеющий пароход, и где-то в самых дремучих джунглях, счастливый, присел на корточки. Потом застегнул штаны и пустился в другую сторону (это давало больше шансов успеть на уже гудящий пароходик) – и неожиданно наступил не на кого-нибудь, а на Степашкина. Он был не один – его оседлала молоденькая блондинка. Оба испускали громкие звуки: девушка тонкие и прерывистые, а Степашкин глухие и низкие.
Девчонка, вцепившаяся подполковнику в нагрудные кудри, зажмурилась и меня не видела, зато Степашкин лежал на спине, запрокинув голову, и наши взгляды скрестились… Партнерша продолжала стонать и визжать – в нескольких метрах от людной тропы, среди бела дня! – зато подполковник уже не сопел, а сверлил меня бешеным бычьим взглядом. Он узнал меня! Раньше у него было время запомнить меня, ведь только в прошлом году гонял нас на тактические учения. И тогда я совершил, наверное, самую большую ошибку в своей непродолжительной жизни: понимающе улыбнулся и поздоровался с преподавателем тактики! Конечно, я не решился отдать ему честь, как нас учили и требовали на кафедре, не щелкнул при том каблуками и не поднес ладонь к несуществующему козырьку. Попросту улыбнулся (понимающе!), кивнул и побежал на корабль. Скорее почувствовал, чем увидел: Степашкин сбросил с себя блондинку, вскочил на ноги и, глядя мне вслед, прикрыл руками то самое место, где обычно болтается в кобуре офицерский Макаров. Но я уже был далеко, меня догнали только его слова: «Мы еще встретимся, сукин ты сын!» – и истошный вопль девушки: «Леша, ты что!» Он не ошибся: мы встретились очень скоро, на кафедре, над военными картами, и его глаза мне ясно сказали: Не забуду и не прощу. Поэтому позже, когда меня исключили и я болтался по грязным пивным и дешевым столовкам, я с охотой рассказывал собутыльникам и знакомым про летнее приключение, причем намеренно сгущал краски и заострял детали, чтобы тот инцидент не казался случайностью, а выглядел бы ухмылкой самой судьбы. Мне показалось странным, что Люция даже не улыбнулась – я с радостью пересказал рассказал ей все в первую же ночь, как только вернулся. Поглядела куда-то во тьму и сказала: «Жалко мне их. Как людей!» От-вернулась и сразу заснула. Я обиделся: до чего сердобольная! Ты меня пожалей, что за дело тебе до Степашкина. Теперь и я не считаю, что очная ставка в прибрежных джунглях была основной причиной моей академической катастрофы. Нет, конечно. Степашкину и без того хватало сотни других причин и улик. Начальник кафедры Вольф с ним тогда горячо согласился: гнать! Мое досье было весьма солидным. Все равно мне стало обидно и даже горько (что уж скрывать!), когда декан факультета, кудрявый, медоволосый (волосы цвета меда!), всеми любимый и сам беззаветно любящий жизнь, элегантный и толерантный, всегда улыбающийся, большеносый доцент, своей обязательной подписью захлопнувший передо мной дверь в святилище знаний, сказал на прощанье: «Высшее образование, молодой человек, пока не является и вряд ли когда-нибудь станет всеобщим и обязательным!» Знаю, после ратификации моего исключения Вольфом и ректоратом любая гуманитарная интервенция была обречена на провал, но все равно было больно. Мог бы хоть буркнуть: Солдафоны! – или что-нибудь в этом роде. Но не буркнул. А я побежал в студенческую поликлинику, наивно рассчитывая заполучить академический отпуск. Пускай установят, что я безумен, пускай! Только бы не кирза и скатка! Длинный чернявый, вроде грузина, доктор обозвал меня дезертиром, саботажником, не постеснялся обругать меня выродком, это мне даже понравилось – ведь выродки не годятся для армии! Нет, он пообещал о моем визите немедленно сообщить самому Вольфу, которого, вероятно, неплохо знал. И выгнал меня, как собаку. Но в то время я уже подписал перемирие с Эльзой; она даже расплакалась, услыхав о моей беспросветной участи и, ничего не скрывая, все без утайки рассказала отцу, видному исполнителю второстепенных ролей в Академическом театре драмы. Отец Эльзы, артист-ветеран, меня не любил, специальность мою полагал никчемной, презирал мои никудышные джинсы… И скорее всего, понимал, что мы с Эльзой выделывали на софе в гостиной, когда пока он парился на репетициях или с чемоданом в руке ходил по комиссионкам – тут покупая, там продавая (была у него антикварная страсть). Сперва он крикнул: «И поделом!», потом слегка успокоился и пошел репетировать роль старого джентльмена из «Визита дамы» Фридриха Дюрренматта, а вернувшись, тяжело отдышался и злобно бросил: «Ладно, попробую!» Он, пожалуй, не мог догадаться, что скрывалось за потайной калиткой моего подсознания, – теперь я отчетливо вижу, что в некоторых отношениях мы со стариком были чрезвычайно похожи. Помочь мне он согласился лишь потому, что в глубине души ненавидел советскую власть. При других условиях он был бы владельцем антикварного или галантерейного магазина. Естественно, эту глубинную ненависть он геройски скрывал. И вот согласился помочь. Сын мельника, а ныне маститый, седой актер, он расчехлил лучший синий костюм, повязал бабочку, пристроил в нагрудном кармане зеленый платок и отправился в глубь одного двора на улице Горького – там и сидел разоблачивший меня черный доктор. Мы с Эльзой курили и битый час ожидали в подворотне его появления – уже неважно, с какими вестями! Эльза первая разглядела его в перспективе двора, схватила меня за руку и горячо зашептала: «Эй, тебе повезло, слышишь!» Кого-кого, а своего отца она знала неплохо. Действительно, пожилой джентльмен шел уверенно, лицо его было сурово: благодаря ему ненавистная русская армия, пусть всего только на год, лишилась одного бойца. Не знаю, о чем и как он беседовал с тем чернявым. Он молча пошарил в кармане и вручил мне справку о том, что по состоянию здоровья мне необходим академический отпуск. Запоздалое счастье, подумал я, ведь все равно уже исключили! Военные по-своему проверяют здоровье! Я расстроился, хотя изо всех сил старался этого не показать – такой счастливой выглядела Эльза, так горд был папаша. Победу мы отмечали в «Неринге», где ненавистник существующего порядка заказал кое-чего закусить и выпить. Довольно скупо, но все-таки. «Ты совсем не умеешь изображать благодарность! – дышала мне в ухо Эльза. – Ну совершенно!» Конечно, я мог бы чмокнуть благодетеля в узловатую руку, промямлить несколько слов признательности, может, тогда и был бы удостоен бифштекса? А теперь кровавый, на английский манер изжаренный ломоть мяса тупым ножом ковырял он один. Эльза лизала мороженое, а мне достался салат. Но вскоре выяснилась одна подробность, и я порадовался тому, что не успел облобызать потенциального тестя. Дочка нетерпеливо спросила, какую болезнь мне приписал этот доктор? Я поддакнул: вот-вот, какую? Артист впервые широко, открыто и, кажется, искренне улыбнулся, обнажив все свои поддельные зубы, профессионально выдержал паузу, отхлебнул коньяка и потеплевшим голосом произнес: