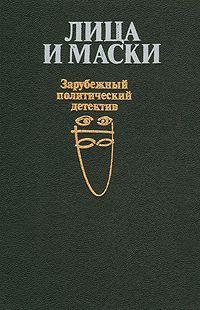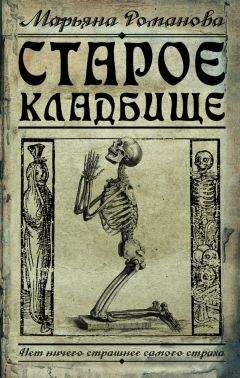Эндрю Миллер - Чистота
– Месье Цветок, Лис и де Бержерак, – представляет вошедших Арман. Гости шутливо кланяются. – Теперь и я стану называться месье Орган. А ты… посмотрим-посмотрим… Ты… гмм… месье Треугольник? Месье Нормандец? Или Кайло? Да, Кайло лучше всего. Мы дадим тебе имя по названию орудия, которым ты будешь откапывать покойников.
– Вижу, ты сводил его к Шарве, – говорит месье Цветок.
– Естественно, – отвечает Арман, ухмыльнувшись в ответ.
За их беседой трудно уследить. Похоже, она состоит из сплетен о мужчинах и женщинах, которые тоже имеют прозвища, точно персонажи какого-нибудь фарса. Когда вино заканчивается, собравшиеся находят кое-что покрепче. Но никто точно не знает, что это такое. В напитке чувствуется легкий привкус миндаля, и в груди разливается приятная теплота. Гости хихикают. Де Бержерак постукивает себя по носу, Лис щупает дыру в подошве башмака так ласково, словно это не подошва, а пятка.
Пошла ли Лиза Саже спать вместе с детьми? Жан-Батист ждет, что она вернется, в надежде, что тогда он, извинившись перед хозяйкой, сможет удалиться восвояси. Весьма приятно сидеть у огня, смакуя ликер и чувствуя вкус куриного жира на губах, но он уже сделал то, что намеревался, и завтра ему надобно отправляться в Валансьен. А с тяжелой головой ехать не хочется.
Заметив, что он поглядывает на дверь, Арман берет его за руку.
– И не думай, что можешь от нас удрать, месье Кайло. Мы еще не закончили.
Допив ликер, компания молча глядит на догорающие угольки камина. В комнате становится холодно. Ничего не происходит. Уже полночь? Или еще позже? Но вот без всякого предупреждения Арман встает. Выходит, однако почти тут же возвращается с двумя большими стеклянными банками, обернутыми в плетеную солому.
– Полагаю, господа, – шепчет он, – вы во всеоружии?
Из глубин своих кафтанов Лис, Цветок и де Бержерак достают кисти. Продемонстрировав их Арману, быстро убирают назад.
Компания выходит на улицу. Вокруг сыро. Сыро и влажно, настоящая зимняя ночь, ничего романтического. Жан-Батист застегнул редингот до подбородка, но вновь жалеет, что под рединготом нет его старого кафтана.
Следом за Арманом они идут по узеньким улочкам, что за Рю-Сент-Антуан. Город принадлежит им – вокруг никого не видно. Это тот недолгий час, когда прилив городской жизни сменяется отливом, когда последние винные лавки уже извергли своих бедолаг, но еще не появились телеги рыночных торговцев, большие шестиколесные повозки с фонарями, болтающимися по обеим сторонам, и вереницы лошадей, этих бедных животных, которые всю ночь шли с ферм и из деревенских садов с навьюченными на них скрипучими плетеными корзинами.
Компания проходит по Рю-Нёв и Рю-де-ль’Эшарп к колоннадам Королевской площади… Что именно они, пьяные, задумали, торопливо перебегая через площадь с банками, полными краски, будет непросто объяснить, попадись им по дороге дозор. А если Жан-Батисту – только что назначенному на должность инженера – придется объяснять свои действия Лафоссу? Министру? (У меня не было выбора, милорд. Я чувствовал, что в тех обстоятельствах не могу отказаться от того, что казалось всего лишь прогулкой. Если бы я знал, что эти люди, с которыми я только что познакомился, намереваются сделать…)
Они выходят на Рю-Сент-Антуан, переходят на другую сторону, минуют церковь Святой Марии, где дюжина нищих, свернувшись калачиком на ступеньках, ждет первой пятичасовой мессы, надеясь получить монетку от какой-нибудь благочестивой вдовы.
Перед ними – на расстоянии около ста пятидесяти метров – крепость Бастилия, ее стены и башни черными громадами неуклюже выступают из окрестной ночи. Бастилия царит надо всем вокруг, однако в то же время производит впечатление какого-то существа, загнанного в угол или попавшего в ловушку, напоминая последнего из василисков, вставшего на дыбы, страшного и исполненного бессмысленной мощи. А за этими стенами? Что? Сотни несчастных, закованных в цепи людей, заживо погребенных в подземельях? Или там все те же камни да спертый воздух, и лишь несколько закрытых на ключ помещений отведены скучающим, но не особенно обеспокоенным своей судьбой пленникам, господам бумагомарателям, которые, сочинив сатиру на королевскую фаворитку, оказались оторванными от своих занятий королевским указом о заточении без суда и следствия.
Они останавливаются у дверей какой-то мастерской, внимательно оглядывают улицу, натягивают шляпы на лоб, а потом, после быстрой команды Армана, несутся вперед, пригнувшись, вдоль фасада крепости, прямо к трем аркам прилегающих к ней ворот Сент-Антуан. Именно здесь на каменных воротах правительство вывешивает свои указы и объявления. О повышении соляного налога, о новых штрафах за незаконную ловлю рыбы в Сене, о запрете выливать горшки с испражнениями на улицу между шестью утра и шестью вечера. Указывается день проповеди, которую прочтет королевский капеллан в часовне Сент-Шапель. День и час клеймения, повешения.
Марание этих объявлений – часть взаимоотношений народа и правительства. Случается, какого-нибудь особенно неуемного нарушителя хватают дозорные, но как правило, оскорбительные надписи, адресованные королеве («Австрийская шлюха!») или отъявленному мошеннику-откупщику, не привлекают особого внимания властей.
Нынче ночью свеженаклеенные объявления подпортят Лис, Цветок, де Бержерак, Орган и Кайло – пришла их очередь. Все делается меньше чем за минуту. Жан-Батист держит одну из банок, а Лис так яростно размахивает кистью, что щеки инженера покрываются брызгами. Он даже не может разглядеть, что именно Лис пишет, разве что слово «НАРОД!». Потом с кистями и красками они удирают, точно мыши из кладовой.
Запыхавшись, возвращаются на Рю-дез-Экуфф, и Арман приглашает их отпраздновать ночную вылазку. Он уверен, что где-то спрятана еще одна бутылка миндального ликера – может, под кроватью. Жан-Батист приносит свои извинения. Час поздний, утром надо ехать… Он вежливо, даже дружески, всем кланяется, но они уже отвернулись от него, возможно, обиженные на отсутствие в нем солидарности, коллективистского духа.
Прижав редингот к шее, Жан-Батист переходит улицу. От камней мостовой поднимается туман, он уже поглотил доходящие Жан-Батисту до бедра указатели улиц, окна первых этажей и вскоре будет лизать вывески из дерева и кованого железа с изображением того, что продается в лавке, – гигантской перчатки, пистолета размером с небольшую пушку, пера не меньше шпаги, болтающихся на железной стреле. Жан-Батист не беспокоится. Он достаточно хорошо знает дорогу, изучил все улицы квартала, хотя, возможно, забыл, что ночной город несколько отличается от дневного. И его отвлекают напряженные мысли о том, что, собственно, он сам думает о пробежке по улицам с банкой краски. Захватывающее приключение? Теперь, когда все кончилось, он вынужден признать, что да, пожалуй. Но в то же время утомительно, абсурдно, по-ребячески несерьезно, ибо что вообще можно изменить, носясь по городу и рисуя на стенах лозунги? Да и люди какие-то странные. Что-то есть в них чуднóе, что-то, с чем ему не хотелось бы связываться, некий род безрассудства. Удивительно, что Арман водится с такими людьми, хотя для него это, наверное, лишь предлог для ночного пьянства. Женщина его заинтересовала, даже понравилась, несмотря на ее резкость. И дети тоже. Он получил удовольствие от их компании, от столь милого внимания, с которым они следили, как аккуратно он рисует фигуры на грифельной доске.
Он останавливается и, нахмурившись, вглядывается в туман. Он уже должен был выйти на Рю-Сен-Дени, чуть выше Рю-о-Фэр. Но вместо этого он… где? Эту улицу он вовсе не узнает. Может, зашел слишком далеко на север? Он ищет левый поворот, проходит почти полкилометра, прежде чем обнаруживает какой-то с виду подходящий переулок, идет по нему вперед, но с каждым шагом все больше теряет уверенность в правильности выбранного направления. Ему кажется, что он уже не в центре Парижа, а на изрытых колеями улочках Белема, и вдруг он видит поднимающиеся прямо над ним контрфорсы церкви, большой церкви. Святого Евстафия? Туман уже такой густой, точно дым от костра. Жан-Батист продвигается медленно, осторожно. Если это и в самом деле церковь Святого Евстафия, тогда он теоретически точно знает, где находится, но он боится, что вновь одурачен туманом и придется остаток ночи провести в блужданиях по неузнаваемым улицам, проходить мимо зданий, похожих на пришвартованные корабли.
Неожиданно впереди – звук шагов. Здесь есть кто-то еще, кто-то, кто, судя по быстрому и легкому постукиванию каблуков, совершенно уверен в том, куда идет. В звуке нет ничего зловещего, ничего откровенно опасного, но все же в душе инженера начинает ворочаться страх. Что за человек бродит по городу в такой час и в такую ночь? Может, это слежка? За ним следили от самых ворот Сент-Антуан? Жан-Батист роется в карманах в поисках чего-то, чем можно себя защитить, но не находит ничего страшнее кладбищенского ключа. В любом случае уже слишком поздно. Пелена тумана рассеивается. Фигура, тень, тень в плаще… Женщина! Женщина, погруженная в раздумье, потому что замечает Жан-Батиста только в метре от него – и сразу же останавливается. Три-четыре секунды они, замерев, глядят друг на друга с первобытной настороженностью, потом поза каждого несколько расслабляется. Он ее знает. Точно знает. Плащ, рост, прямой взгляд, озаренный странным туманным свечением, легким голубоватым светом, исходящим отовсюду и неоткуда. Но помнит ли она его? С чего бы?