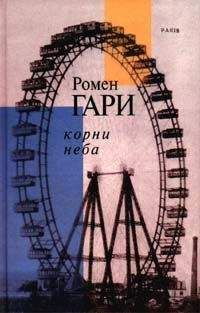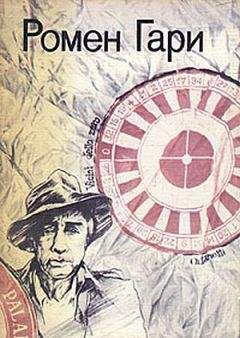Ромен Гари - Леди Л.
– Арман, научи меня какой-нибудь песне о любви…
– Черт возьми. Неужели ты не выучила ни одной песни, Анетта?
– Те, что я знаю, слишком короткие и грустные. Жалобы, стоны, рыдания, умирание, как будто у всех тех кто их пишет, не все в порядке с легкими. Напиши мне настоящую песню о любви, Арман.
– Сегодня я немного не в ударе, хотя попробовать, конечно, можно.
Вот так в одной из мансард Женевы затравленным террористом были написаны слова песни, такой популярной во Франции к 1895 году – «Скоротечное счастье», – положенные, впоследствии на музыку Аристидом Фийолем. Когда Леди Л. впервые услышала припев на одной из парижских улиц, проезжая в машине о английским послом сэром Алланом Хазлитом, и неожиданно узнала знакомые слова: «Прощай, краткий миг, прощай, скоротечное счастье…», она побледнела под вуалеткой, закрыла лицо руками в перчатках и разрыдалась. Ибо Арман вовсе не оказался удачливее всех других поэтов, его предшественников: песню он сочинил слишком уж короткую и грустную.
Однако терявшие терпение Свобода, Равенство и Братство вскоре заявили о себе. Арман предоставлял убежище политэмигрантам: полякам, стремившимся освободиться от русского ига; немецким революционерам, которые раз за разом, с присущей их народу аккуратностью» терпели неудачи в своих покушениях на кайзера; венграм» еще мечтавшим о Кошуте; итальянцам» готовившим убийство своего короля; сербам, ожидавшим падения Габсбургов. Все чаще после того, как Анетта со счастливой улыбкой взбегала на пятый этаж» в проеме двери перед ней открывался вид на группу субъектов, составлявших планы покушений в Париже, Вене или Москве на листочке бумаги, на котором еще валялись голова с круглыми глазами и кости от приготовленной по-русски селедки. Они проводили там ночь, либо засыпая прямо на полу, либо с неутомимой горячностью обсуждая до самого рассвета политические новости, что приносили из своих стран свежеизгнанные товарищи.
С каким возбуждением, с каким энтузиазмом встречали они малейший слушок, цепляясь за каждую ниточку надежды, видя во всем знаки, благоприятные для себя, каждый день ожидая необычных, резких перемен, бунтов, которые ничто не сможет остановить и которые позволят им наконец все взять в свои руки и прийти через кровь к чистоте, а через бойню – к справедливости. Все они считали, что окружены всемирной симпатией; угнетенные слои общества только и ждут сигнала, чтобы восстать, массы на их стороне, это всего лишь вопрос нескольких месяцев, недель, часов. Ни одного рабочего среди них, ни одного сына рабочего или крестьянина; русские были все благородного происхождения и часто носили известные фамилии; немцы – романтичные буржуа, страстно влюбленные в поэзию; итальянцы – любители бельканто, мечтавшие превратить человечество в песнь любви и красоты, чтобы претворить в жизнь оперы, которые они в себе ощущали. Все они несли на себе отпечаток такого аристократизма души и такой изысканности чувств, что запросто подменяли Дамой-Человечество ту другую Даму, которую воспевали трубадуры в эпоху куртуазной любви; человека они делали божеством, а свою политическую веру – церковью; в революции они искали более подлинные дворянские титулы, нежели те, которыми многие из них были наделены; пораженные впоследствии интеллектуальным капитулянством – естественным следствием их чересчур взыскательных стремлений, некоторые из них, примкнув к фашизму и нацизму, совершили типичное самоубийство разочарованной любви. Были среди них великие мечтатели с чистыми сердцами, швырявшие бомбы в парламентах, где великие буржуазные ораторы распинались перед своими любовницами, и гордо восходившие на эшафот, преподнося таким образом мечте в знак почитания отрубленную голову. Напрасно пыталась их трагическая и отчаянная жестокость нарушить последний сон истекающего столетия; они обладали слишком тонким слухом и уже слышали отдаленный гул вала истории, который должен был хлынуть мощным потоком, но им не хватало ни терпения, чтобы его дождаться, ни власти, чтобы его ускорить.
Анетта заставала их всех в маленькой комнатке: сгрудившись вокруг стола с хлебом и засохшей колбасой на газетной бумаге, они мечтали о каком-нибудь чудодейственном кратчайшем пути, каком-нибудь сказочном подвиге, который привел бы прямо к цели, избавив их от медленной и приводящей в отчаяние воспитательной, пропагандистской и организационной работы. Один из них – русский – скрывался там в течение двух недель; он был толстый, лысый и бородатый, я от него весло табаком. В Женеве он дожидался денег, которые должна была прислать ему мать, чтобы он мог вернуться в Санкт-Петербург и убить царя. Он постоянно рассказывал о матери, объясняя всем и каждому, какая это выдающаяся, храбрая и умная женщина. Его звали Ковальский, а его мать действительно была знаменитой графиней Ковальской; сосланная в Сибирь за революционную деятельность, она стала там тайной советчицей и вдохновительницей Чулкова. Несколькими неделями позже Ковальский действительно вернулся в Россию, но вместо того, чтобы взорвать царя, он нечаянно взорвал родную мать, не сумев предотвратить несчастный случай, вызванный бомбой его собственного приготовления. Был также Килимов, молодой офицер, бывший кадет пажеского корпуса, молчаливый, задумчивый, замкнутый человек, убивавший время, играя в шахматы с самим собой и постоянно проигрывая, что, по-видимому, вызывало у него мрачное удовлетворение. И Наполеон Росетти, маленький жизнерадостный итальянец, уроженец Кремоны, который играл на скрипке в ресторанчиках и никогда не прогуливался по Женеве без бомбы в своем таком безобидном с виду футляре.
– Никогда не знаешь, мадемуазель, – любезно объяснял он Анетте, – с кем выпадет встретиться на посещаемых такой благородной публикой берегах Женевского озера. Так что мой девиз: «Всегда готов услужить».
В «Эссе об искусстве» сэра Бертрана Мура, опубликованном в 1941 году, Леди Л. нашла замечательный пассаж, который, по ее мнению, можно было с успехом отнести к Арману и к некоторым из его товарищей. «Все так и должно было кончиться; потребность в красоте человеческой души должна была рано или поздно выйти за рамки искусства, чтобы приняться за саму жизнь. Поэтому перед нами – вдохновенные творцы, бросившиеся в погоню за приказавшим долго жить шедевром; с жизнью и обществом они начинают обращаться как с податливой массой. Представьте Пикассо или Брака, пытающихся построить новый мир по канонам своего искусства: все человечество обрабатывается, растирается, истязается – как лепная глина. Как раз это с нами и происходит. Остается узнать, откуда попадает в человеческую душу эта потребность в прекрасном: поистине, кто-то выбрал очень любопытное местечко, чтобы ее туда запихнуть».
Поначалу группка заговорщиков показалась Анетте довольно любезной. Но Арман решил, что для успеха их планов девушке важно сохранить анонимность, и запретил своей подружке приходить к нему, когда там находились товарищи. Анетта тотчас возненавидела их всеми фибрами своей души и не задумываясь выдала бы их полиции, если бы такой каприз не грозил бедой ее любовнику.
Так что большую часть времени она была теперь предоставлена сама себе и поэтому стала искать утешения в радостях, к которым имела доступ благодаря своему новому положению и остаткам денег Альфонса Лекера. Она совершала длительные прогулки за городом, поигрывая зонтиком, не забывая напомнить кучеру ехать помедленнее, чтобы вдоволь насладиться забавным эффектом, который производил на одиноких прохожих ее проезд, довольная, что может позволить любоваться своей персоной, напуская на себя загадочный и немного томный вид, чтобы подогреть их любопытство. Она останавливалась перед романтичными виллами с итальянскими балконами, по которым, казалось, бродят тени всех исчезнувших любовников, она смотрела на элегантных дам и изысканных мужчин, игравших на лужайке в крокет, она посещала сад, подаренный городу великим герцогом Алексисом, где, чтобы вы не затерялись в лабиринте цветов, вам предоставляли гида, и ее охватывало властное желание быть богатой, иметь дом, свой выезд, свои сады, гулять среди цветов, которые принадлежали бы ей. Сказочное разнообразие цветов представлялось Анетте одной из величайших загадок мироздания. Она болтала с садовниками, выясняя названия растений, их вкусы, привычки, требования и капризы, и, закрыв глаза, пыталась распознать каждый цветок по его запаху; когда она попадала в точку, ей казалось, что она обрела друга на всю жизнь.
Часами она пропадала в салонах мод, примеряя туалеты, шляпки, играя боа из перьев или вуалеткой, помогавшими ей – такой юной – окружить себя тайной, в то время как продавщица восклицала: «Как вы прекрасны, мадемуазель!»
Около пяти вечера она всегда заходила к Рампелмейеру, где пила чай, прислушиваясь к неназойливому гулу французских, русских или немецких голосов вокруг себя, притворяясь, что никого не видит и ничего не слышит, кроме разве что «О sole mio»[11] в исполнении пузатенького итальянца, прижимавшего к сердцу волосатую руку, в то время как его тощий приятель с длинными кудрями аккомпанировал ему на скрипке. У нее так хорошо получалось напускать на себя рассеянно-отсутствующий вид, и она уже добилась такого правдоподобия в скромности и такой уверенности в одиночестве, что ни один из тех, и молодых, и пожилых, мужчин, которые так падки на сладкое за чаем, не осмеливался никогда ни заговорить с ней, ни даже открыто на нее посмотреть. Лишь изредка она бросала быстрый и циничный взгляд, который словно стрела внезапно пронзал рафинированную и благопристойную атмосферу зала, а на лице на миг появлялось выражение такого лукавства, что становилось слышно, как звенят чашки, ложки и блюдца в руках некоторых охотников в засаде. Но прежде чем эти дилетанты успевали задать себе кое-какие вопросы или убаюкать себя кое-какими надеждами, губы Анетты безжалостно уничтожали последний след исчезнувшей улыбки, ее длинные ресницы скромно опускались, лицо ее становилось отстраненным и непроницаемым, и в ушах у нее раздавались слова господина де Тюлли: