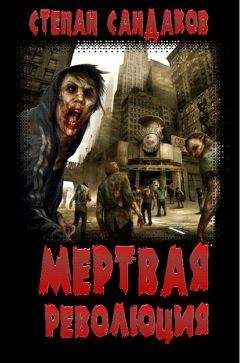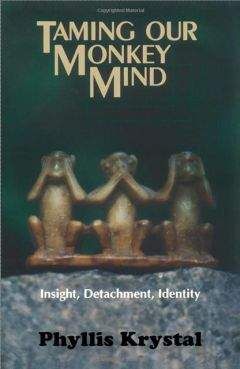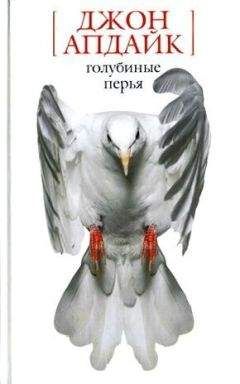Сол Беллоу - Равельштейн
Стоило чуть надавить, и Равельштейн тут же выкладывал все сокровенные тайны Бэттла – да и чьи угодно. Цитируя нашего общего покойного друга, он говорил: «Если это делаю я, это не сплетни, а урок социальной истории».
Он имел в виду, что личные идиосинкразии человека – всеобщее достояние, нечто доступное всем, как воздух и прочие предметы широкого потребления. Эйб не желал тратить время на психоаналитические спекуляции или анализ повседневной жизни людей. Он плевать хотел на «всю эту психологическую хрень» и предпочитал остроумие, даже откровенную жестокость традиционным благонамеренным дружеским объяснениям.
На холодной солнечной улице – мороз испещрил его лицо глубокими морщинами, – Бэттл спросил меня:
– Эйб нынче принимает гостей?
– Почему нет? Он всегда рад тебя видеть.
– Нет, я неправильно выразился… Он так любезен со мной и Мэри.
Мэри была пухлая, остроумная, улыбчивая женщина. Мы с Равельштейном очень ее любили.
– Раз он всегда вам рад, к чему эти вопросы?
– Ему вроде бы нездоровится…
– Да ему вообще всегда нездоровится. Эйб такой.
– Но сейчас он, кажется, совсем захворал?
Бэттл надеялся выпытать у меня подробности о состоянии Равельштейна. Конечно, я бы ничего ему не сказал, хотя и знал, как он любит Эйба – равняется на него. Со странными людьми я не откровенничаю. Каждый глоток морозного воздуха придавал физиономии Бэттла все более насыщенный оттенок красного, причем цвет этот равномерно заливал все лицо, стекая под плиссированные складки ворота. Шапки и шляпы он носил крайне редко – пышные черные волосы грели ему загривок. В тот день на Бэттле были туфли для танго. Я сочувственно относился к его странностям. В манерах Бэттла сочетались натянутая утонченность и прущая из-под нее непокорная брутальность.
Бэттлы держали Равельштейна в большом почете. Они ему сопереживали. И наверняка часто о нем разговаривали.
– Ну, он перенес несколько инфекций. Из особенно тяжелых – опоясывающий лишай.
– Herpes zoster, да-да, конечно. Поражает нервы. Ужасно больно и мучительно. Часто проникает в спинной и черепно-мозговой нерв. Я встречал такие случаи.
От его слов у меня перед глазами возникла картинка: Равельштейн лежит под пуховым одеялом. Потемневшие глаза ввалились, голова покоится на подушках. Посмотреть со стороны – человек отдыхает, но на самом деле ему вовсе не до отдыха.
– Значит, он поправился? – спросил Бэттл. – А потом разве не заболел чем-то еще?
Заболел. Новая инфекция называлась синдром Гийена – Барре, как нам сказали неврологи – когда наконец разобрались, что к чему. В то время таких диагнозов еще не ставили. Эйб только что прилетел из Парижа, где мэр устраивал званый ужин в его честь. Смокинг, галстук, торжественные речи – от такого мероприятия изголодавшийся по признанию Равельштейн не мог отказаться. В Париже, где он хотел провести отпускной год, Эйб снял квартиру на улице посольств и официальных резиденций, неподалеку от Елисейского дворца. Там всегда дежурила полиция, и каждое возвращение домой представляло определенные трудности: у Эйба никак не доходили руки посетить муниципалитет и оформить carte de séjour, вид на жительство. Поэтому, когда по ночам его останавливали с просьбой предъявить документы, начинались проблемы. Эйб отсылал полицию к маркизу Такому-то, хозяину его апартаментов. Да, об этих уличных инцидентах стоит сказать еще кое-что. В Париже даже неприятные разговоры с полицейскими происходят на высшем уровне. По сравнению с его истинными бедами ночная болтовня с корсиканцами была для Эйба скорее развлечением (он считал, что все flics – французские копы – поголовно родом с Корсики, и, как бы гладко они ни брились, их щеки и подбородки всегда остаются колючими).
В общем, Равельштейн быстренько слетал на званый ужин и тут же свалился с тяжелой хворью (открытой, между прочим, французом). Его положили в больницу, в реанимацию, стали давать кислород. Посетителей в палату пускали только по двое. Равельштейн почти не говорил, но иногда в его взгляде мелькало узнавание. Глаза на этой огромной лысой дозорной вышке были серьезными и сосредоточенными. Руки, и без того никогда не отличавшиеся силой, исхудали и остались без мышц. В начале болезни они его не слушались. Однако он умудрился мне сообщить, что хочет курить.
– Нет, только не с кислородной маской. Ты поднимешь на воздух все заведение.
Почему-то я всегда оказывался в роли вразумителя, пытающегося внушить хоть какое-то подобие здравого смысла людям, заносчиво пренебрегающим элементарными соображениями безопасности. Окружающие ставили меня в подобное положение или в глубине души я таким и был? Сам я себя считал (в минуты гиперсамоедства) эдаким porte parole [11] мещанства. Равельштейн знал об этом моем изъяне.
Тут мы с Никки были чем-то похожи. Только Никки не стеснялся в выражениях и критике. Когда Равельштейн купил у одного сухумца дорогущий ковер, Никки заорал: «Ты отдал десять штук за прорехи?! По-твоему, дырки доказывают, что это – подлинный антиквариат? Тебе наплели, что в эту тряпку заворачивали голую Клеопатру?! Нет, все же прав Чик: ты из тех людей, что готовы разбрасывать деньги из окна скорого поезда. Ты будто стоишь на смотровой площадке “Двадцатого века” и швыряешь на ветер стодолларовые купюры».
Никки сразу известили, что Равельштейн опять слег. Он по-прежнему учился в женевской школе метрдотелей и сообщил нам, что возвращается немедленно. Его любовь к Эйбу не обсуждалась. Никки был крайне прямолинейным человеком – прямолинейным от природы, красивым, гладкокожим, черноволосым, изящным азиатом с юношеской внешностью. У него были весьма экзотические представления о своей персоне. Я вовсе не говорю, что он важничал или кривлялся. Нет, Никки вел себя абсолютно естественно, но был – так я тогда думал – слегка избалован. Конечно, и тут я ошибался. Да, его воспитали как принца. Еще до того, как книга Равельштейна начала продаваться миллионными тиражами, Никки одевался лучше принца Уэльского. Он был умнее и проницательнее многих молодых людей своего возраста, получивших куда более серьезное образование. Что еще важнее, этот протеже Равельштейна смело отстаивал свое право на то, чтобы быть именно тем, кем кажется.
Позерство тут ни при чем, часто говорил Равельштейн. В Никки не было ничего декоративного, наносного, театрального. «Он не ищет неприятностей, но имей в виду, он всегда готов к драке. И его представления о самом себе таковы, что… он будет драться. Мне часто приходится его унимать».
Иногда Равельштейн тихо сообщал мне, что между ними с Никки нет никакого интима. «Мы скорее как отец и сын», – добавлял он.
В плане секса мне иногда казалось, что Равельштейн считает меня дремучим и отсталым человеком, анахронизмом. Я был его близким другом, но при этом вырос в традиционной европейско-еврейской семье, где гомосексуалисты назывались словами двухтысячелетней давности. От далеких еврейских предков нам достался термин tum-tum времен Вавилонского пленения. Иногда мои родственники пользовались словечком andryegenes, явно александрийского, эллинистического происхождения – два пола, слитых в единое темное и порочное целое. Смесь архаизма и современности особенно нравилась Равельштейну, которому было мало одних только наших дней – его то и дело бросало в разные века.
Из реанимации он вышел неходячим, но очень быстро заново научился управлять руками. Руки были ему жизненно необходимы – чтобы курить. Как только Равельштейна перевели в обычную больничную палату, он отправил Розамунду за пачкой «Мальборо». Она была его студенткой, и он научил ее всему, что должен был знать его студент – всем основам и постулатам своей эзотерической системы. Безусловно, она понимала, что Равельштейн только-только начал дышать самостоятельно и курение ему категорически запрещено.
– Только не говори, что сейчас не лучшее время для курения. Не курить все равно хуже, – сказал он Рози, когда та замешкалась.
Безусловно, она его поняла, не зря же посещала все его лекции.
– В общем, я спустилась к автомату и купила ему шесть пачек, – рассказывала она потом мне.
– Если б не ты, так другие бы купили. Будто ему послать некого…
– Вот-вот.
В больнице Равельштейна постоянно навещали студенты – кружок избранных. Они приходили, уходили, собирались в вестибюле и болтали. На второй день после переезда в обычную палату Эйб вновь сел за телефон и принялся звонить своим парижским друзьям, объясняя, почему не может вернуться и почему вынужден отказаться от снятой квартиры. Чтобы вытрясти из аристократических хозяев dépôt de garanti – десять тысяч долларов – требовалось проявить нешуточные дипломатические способности. Неизвестно было, отдадут они деньги или нет. Впрочем, Равельштейн их понимал: то были самые красивые и самые выдающиеся апартаменты из всех, где ему только приходилось жить.