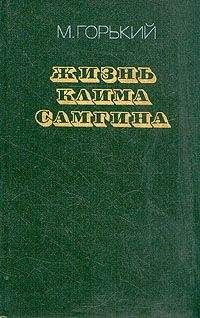Колум Маккэнн - ТрансАтлантика
– Нет. Не учился.
– И не брали уроков?
– Нет.
– Но, если позволите…
– Да?
– Как вы объясните подобное красноречие?
Тугой узел свернулся у Дагласса в груди.
– Подобное красноречие?
– Да? Как это…
– Вы извините меня?
– Сэр?
– Мне пора бежать.
Дагласс пересек комнату, громко щелкая подошвами, на ходу расплываясь в улыбке.
Под вечер он замечал Лили – та прибиралась на верхнем этаже. Всего семнадцать лет. Песочные волосы. Глаза в окантовке веснушек.
Закрыл дверь, сел писать. Перед глазами – ее силуэт. Дагласс пропустил ее вперед на лестнице. От нее повеяло табаком. Мир снова стал обыкновенным. Дагласс поспешно спустился в салон, где принялся за литературные журналы, на которые подписывался Уэбб; горы книг и журналов. В них можно потеряться.
Над головой звучали шаги Лили. Когда смолкли, он обрадовался. Вернулся наверх, сел писать. В спальне ни пылинки, гантели на месте.
Из банка на Колледж-грин отправили в Бостон поручение – положить 225 фунтов стерлингов на счета Американского общества борьбы против рабства. То есть 1850 долларов. Дагласс и Уэбб явились в жестких шерстяных пальто и белых льняных сорочках. Над Дублином летали чайки – толпами, как побирушки. На задах скандирующей толпы он разглядел мальчика с красной сыпью на шее и лице.
– Эй, мистер Дагласс! – заорал мальчуган. – Мистер Дагласс, сэр!
Когда карета свернула возле университета, Дагласс отчетливо расслышал, как мальчуган запустил в воздух имя без фамилии.
Газеты трубили о том, что перед гигантской толпой у дублинских верфей выступит О’Коннелл. Народный трибун. Подлинный сын Ирландии. Всю жизнь агитировал за католическую эмансипацию и парламентское правление, про отмену рабства тоже писал. Блестящие сочинения – пылкие, страстные. О’Коннелл всей жизнью своей рискнул ради подлинной свободы, прославился своими речами, писаниями, главенством закона.
Чтобы успеть к началу Дагласс отменил чаепитие в Сандимаунте. Катил вдоль многолюдных доков. Невообразимая толпа: сюда словно выжали весь Дублин, как губку в раковину Целая раковина живых ножей и вилок. Полиция по краю сдерживала толпу. Дагласс потерял Уэбба и протолкался вперед, к сцене, как раз когда появился О’Коннелл. Великий Освободитель – грузный, усталый, кислый: по всему судя, таков с самого освобождения из тюрьмы[14]. И однако же толпа взревела. Мужчины и женщины Ирландии! Шум стоял оглушительный. О’Коннелл взял рупор и заговорил – стрелял в небо словами, огромными, грозными, налитыми до краев. Речь потрясла Дагласса – логика, риторика, юмор.
О’Коннелл обнимал толпу колодцем протянутых рук. Подавался вперед. Обуздывал пыл. Разворачивался на каблуках. Расхаживал по сцене. Поправлял парик. Держал паузы. Речь его передавали другие – они стояли на высоких стремянках и посылали слова дальше, вдоль доков.
– Расторжение унии – право Ирландии и наказ Господа!
– Оглядитесь: Англия низвела наш народ до неволи!
– Применение силы не есть наша цель!
– Объединяйтесь, агитируйте, восстаньте со мною вместе!
В смрадном воздухе взлетели шляпы. Приветственные крики ритмично шагали над толпой. Дагласс словно к месту прирос.
Потом ирландца окружила громадная ватага. Дагласс протолкался ближе, с извинениями протиснулся мимо десятков пар плеч. О’Коннелл поднял глаза, мигом понял, кто перед ним. Они обменялись рукопожатием.
– Большая честь, – сказал О’Коннелл.
Дагласс опешил.
– Исключительно для меня, – ответил он.
Ладонь О’Коннелла вырвалась из его руки. Даглассу столько всего хотелось обсудить: расторжение унии, пацифизм, положение ирландского духовенства в Америке, философию агитации. Он снова потянулся за рукой ирландца, но их уже разделяло слишком много тел. Его отталкивали, пихали. Какой-то человек заорал ему в ухо про умеренность. Другой требовал подписи под петицией. Какая-то женщина отвесила книксен; от нее дохнуло грязным амбре. Дагласс отвернулся. Под десятками углов налетало его имя. Дагласса словно крутило в водовороте. О’Коннелла уводили со сцены.
Когда Дагласс снова повернулся, Уэбб цепко взял его за локоть, сказал, что у них назначено на Эбби-стрит.
– Одну минуту.
– Боюсь, нам пора, Фредерик.
– Но я должен с ним поговорить…
– Уверяю вас, представится еще немало возможностей.
– Но…
Дагласс перехватил взгляд О’Коннелла. Они кивнули друг другу. Дагласс посмотрел, как ирландец уходит. Сутулится в ярко-зеленом пальто. Платком отирает лоб. Парик слегка съехал. Некая смутная грусть. Но – обладать такой властью, подумал Дагласс. Таким обаянием. Такой энергией. Столь великолепно царить на сцене. Пробуждать справедливость без насилия. И как слова его до мозга костей прошибали народ, что еще не разошелся из доков, болтался, точно мусорные ошметки на воде.
Спустя два дня в Зале примирения О’Коннелл вывел его на сцену, воздел его руку в воздух: Перед вами, сказал он, чернокожий О’Коннелл! Дагласс смотрел, как к стропилам взметаются шляпы.
– Ирландцы и ирландки…
Он взглянул на эту человеческую свалку. Сплошь мерзость и низкопоклонство. Я благодарен, промолвил он, за честь выступить перед вами. Воздел руки, угомонил толпу, заговорил о неволе и торговле, о лицемерии и необходимости отмены рабства.
Приток энергии. Огонь. Он слышал, как бежит по толпе рябь его слов.
– Взглянув на одного-единственного человека, – сказал он, – вы узрите все человечество. Зло, причиненное одному, причиняется всем. Никакой силе не заточить в темницу добро и справедливость. Отмена рабства станет естественным течением мысли нашего мира!
Он расхаживал по сцене. Плотнее запахивал пиджак. Он еще никогда не видел такой аудитории. Она глухо ворчала. Он выдержал паузу. Затем кулаком вбил в них свои тезисы. Всем телом потянулся к ним. Поискал их глаза. И все же чувствовал дистанцию. Тревожно. Меж ключиц собралась капля влаги.
С галерки донесся крик. А как же Англия? Он не осуждает Англию? Англия ведь тоже рабовладелица. Разве нет наемного рабства? И оков капиталистического гнета? И подпольной дороги, по которой всякий ирландец с радостью бежит от английской тирании?
На галерку двинулся полицейский, заостренная каска исчезла. Смутьяна быстро утихомирили.
Дагласс выдержал еще одну долгую паузу. Я верю в дело Ирландии, произнес он затем. Внизу гребнем волны закивали головы. Он понимал: тут нужна осмотрительность. Под сценой стоят газетчики, записывают каждое слово. Опять придем к Британии и Америке. Он поднял руку. Слегка повертел ею в воздухе.
– Что думать нам о государстве, кое бахвалится свободой, – произнес он, – но заковывает в кандалы свой народ? Самой судьбою начертано, что свобода станет всемирной. У человечества одна задача на всю планету.
Облегчение затопило его, когда толпа зааплодировала. О’Коннелл вышел на сцену и вновь воздел руку Дагласса, повторил: чернокожий О’Коннелл! Дагласс поклонился и глянул вниз: в первых рядах Уэбб грыз ручку лорнета.
За ужином на Досон-стрит он сидел подле лорд-мэра, но отклонял стул назад, чтобы поговорить с О’Коннеллом.
Вечером они вместе прогуливались в саду резиденции, торжественно шагали меж по-зимнему стриженных розовых кустов. О’Коннелл слегка сутулился, руки сцепил за спиной. Ему жаль, сказал О’Коннелл, что он не может больше и непосредственнее помочь Даглассу и его народу Ему тяжко слышать, что среди рабовладельцев Юга столько ирландцев. Трусы. Предатели. Позор национального наследия. Он не допустит, чтоб они бросали тень на него. Они отравлены, привезли свой яд с собою, опозорили свой народ. Да не ступит наша нога в их церкви. Они принесли присягу ложного превосходства.
О’Коннелл схватил Дагласса за плечи и сказал: однажды я убил человека. На дуэли, в Кильдаре. Во имя защиты католической гордости. Выстрелил ему в живот. Остались вдова, ребенок. Это мучит меня по сей день. Я больше никого не убью, но по-прежнему готов умереть за веру: человек свободен, только если живет ради дела свободы.
Они серьезно беседовали о положении в Америке, о Гаррисоне, Чэпмен, президентстве Поука[15], перспективе выхода южных штатов из Союза.
О’Коннелл был многогранен, но Дагласс чуял в великом человеке тайное истощение. Точно слишком тяжелы все те вопросы, что он нес по жизни, – незаметно въелись в плоть, застряли в теле, пригибали к земле.
Он чувствовал ладонь О’Коннелла у себя на локте, в тишине между шагами слышал трудное дыхание. Худой человек бродил вдоль дальней границы сада, постукивая по часам, что свисали на цепочке из жилетного кармана.
О’Коннелл отослал человека прочь, но Даглассу почудилось, будто он впервые в жизни распознал мелкое поражение славы.