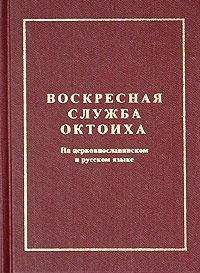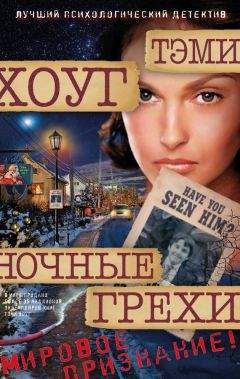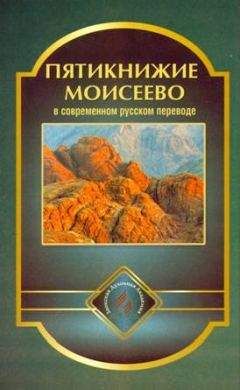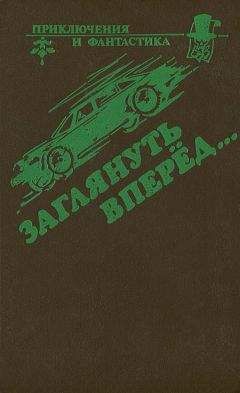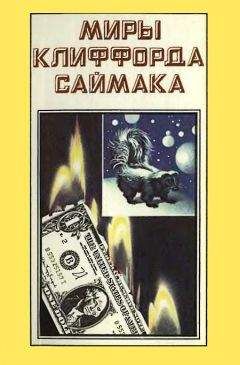Амели Нотомб - Счастливая ностальгия. Петронилла (сборник)
– На каком языке он говорит?
– С матерью по-французски, со мной по-японски.
– Мне бы хотелось встретиться с ним.
Молчание. Наверное, я слишком много себе позволила.
– Я все говорю, говорю, а ты ничего не рассказываешь.
– Ты читал мои книги – тебе все известно.
Он загадочно улыбается – похоже, считает, что я увиливаю. Ринри спрашивает о моих родителях и сестре. Когда я заканчиваю свой рассказ, лицо его проясняется.
– Когда Жюльетта летом восемьдесят девятого приезжала в Токио повидаться с тобой, ты нас познакомила.
– Помню. Ты очень нравишься моей сестре.
– Она стряпала для меня.
– Да ты что?
– Еще как! Она приготовила мне лучшее в мире блюдо французской кухни.
Воспоминание доставляет Ринри удовольствие, он задирает нос.
– Что же это было? Я не помню.
– Оно как-то странно называлось. Я его больше никогда не ел. Настоящий деликатес! На дно большой плоской кастрюли твоя сестра положила фарш из разных сортов мяса с луком. Поверх него распределила пюре из картошки, которую размяла сама, что поразительно для столь хрупкого создания. И все это было запечено в духовке.
Ринри благоговейно прикрывает глаза.
– Картофельная запеканка с мясом, – определяю я.
– Точно! До чего изысканно!
Я смеюсь. Потрясающая личность – моя сестрица: я знакомлю ее со своим японским возлюбленным, а она готовит ему картофельную запеканку с мясом. Горжусь ею!
– Как продвигается съемка документального фильма? – спрашивает Ринри.
Рассказываю ему про Нисиё-сан. Под конец говорю:
– Странная штука – память. Нисиё-сан может вспомнить мельчайшие подробности моего детства, но забыла про Фукусиму.
– А по-моему, это нормально – помнить только самые серьезные катастрофы.
Я хохочу.
* * *Съемочная группа ждет нас в ресторане. Режиссер и оператор с любопытством разглядывают Ринри. Даже Юмето не в силах удержаться и не бросить беглый взгляд на моего бывшего.
Ринри просто великолепен.
– Вы любите японскую кухню?
Он заказывает нам блюда, состав которых нам совершенно неведом.
– Хорошо вас принимает моя страна?
Оператор щедро расхваливает фотогеничность людей и предметов.
– Довольно смело с вашей стороны было поехать в Фукусиму, – продолжает Ринри. – Одиннадцатого марта две тысячи одиннадцатого я был в Токио. В тот день мы выдавали дипломы, и я ради такого случая арендовал целый этаж престижного здания. Когда началось землетрясение, я как раз произносил речь перед нарядно одетыми выпускниками. Очень быстро мы поняли, что происходящее не имеет ничего общего с еженедельными толчками, так забавляющими детей. Многие студенты повалились на пол, а землетрясение все продолжалось, и казалось, это никогда не кончится. Мы находились на двадцать первом этаже, и нам оставалось только ждать смерти. Мы так испугались, что даже не кричали. Единственной моей мыслью было: «Как жаль, что мой сын умрет восьмилетним…»
– Где он был? – спросила я.
Погруженный в свои воспоминания, Ринри не отвечает мне и продолжает:
– А потом все прекратилось. Потрясенный тем, что остался в живых и что никто не пострадал, я отдал студентам распоряжение покинуть здание, соблюдая полнейшее спокойствие. Лифты не работали, и мы спускались с двадцать первого этажа по лестнице. Оказавшись на улице, каждый пошел своей дорогой. Видела бы ты Токио: ни метро, ни другой транспорт не работал, то есть люди могли передвигаться только пешком. Я живу все в том же доме, который ты знаешь. Я потратил четыре часа, чтобы добраться туда пешком, в страшной тревоге. О радость: Луи был дома, живой и невредимый!
– Было много погибших? – спросила девушка-режиссер.
– В Токио очень мало. Что касается провинции Сендай и Фукусимы, я думаю, вы в курсе.
– Да.
– Мы считаемся здравомыслящей нацией. Очевидно, такими кажемся. Однако я был поражен, и до сих пор остаюсь при своем мнении, неразумными поступками моих соотечественников. Я одним из первых проявил солидарность с потерпевшими. Но известно ли вам, что в Токио многие (кое-кого я даже знаю лично!) во имя того, что они называют солидарностью, используют в пищу только овощи, выросшие в Фукусиме?
– Невероятно.
– Такое возможно только в Японии, – мрачно констатировал Ринри.
– Это прекрасно, – сказала девушка-режиссер.
– Вы находите? – саркастически усомнился Ринри. – Что касается меня, я считаю это глупым и нелепым.
Подали суп с водорослями.
– Вы на меня не рассердитесь, если эти водоросли не из Фукусимы? – спросил мой бывший возлюбленный.
– Я тебя прощаю, – ответила я.
– Самое глупое, – продолжал он, – это то, что в километре от атомной станции в Фукусиме, на берегу, не так давно нашли стелу тысячелетней давности. На ней обнаружили надпись на древнеяпонском языке: «Не возводите тут ничего важного. Здешние места будут уничтожены гигантским цунами». Увы, этому не придали значения. Хотя, пока стела не была опрокинута катастрофой, высеченное на ней и легко читаемое предупреждение из прошлого было у всех на виду.
Мы ели в сосредоточенном молчании.
– После одиннадцатого марта две тысячи одиннадцатого года, – снова заговорил Ринри, – жизнь изменилась. Многие уехали из Японии. И даже если сам я никогда этого не сделаю, я могу их понять. Мы встревожены. Мы утратили беспечность. Жизнь давит на нас.
Глубина нашего молчания свидетельствует о степени нашего понимания.
Официантка уносит пустые миски. Ринри, словно освобождаясь от страшного видения, встряхивает головой:
– Поговорим о другом.
– Что вы думаете о посвященной вам книге Амели? – спрашивает режиссер.
О боги, хотела бы я сейчас оказаться в другом месте.
Прежде чем ответить, он слегка наклоняет голову:
– Очаровательный вымысел.
Девушка-режиссер озадачена.
Подумав, я понимаю. В романе «Токийская невеста» я излагаю свою версию наших отношений. Почему бы версии Ринри не отличаться настолько, что моя показалась ему вымыслом? Если бы святой Иоанн мог прочесть Евангелие от Матфея, можно не сомневаться, что он узрел бы там вымысел. К тому же бывший жених назвал мой вымысел очаровательным. Я вздыхаю. Ринри говорит на гораздо более чистом, не истрепанном французском, чем мы: он использует слова этого языка всего половину своей жизни. Он говорит «очаровательный», и это вовсе не наше вежливое прилагательное. И сам глубокий смысл этого слова источает очарование.
Бедняга Юмето, японо-английский переводчик, вообще не улавливает, о чем мы говорим. Я боюсь, что ему скучно, тем более что он давно уставился в свои колени. Мельком заглядываю под стол и вижу, что он читает «Фейсбук».
Потом мы занимаемся грудой ракушек и морепродуктов. Вскрываем, высасываем, соскребаем и вздыхаем от удовольствия. Похоже, Юмето позабыл о своей социальной сети. Выбранное для нас Ринри отменное белое вино ласкает душу.
Ринри вежливо расспрашивает режиссера о ее литературных пристрастиях. Девушка упоминает о своей любви к Луизе Лабе.[15] Какой-нибудь бахвал воскликнул бы: «А, Прекрасная канатчица!» – или прочел бы стихотворение поэтессы, единственное пришедшее на память. Ринри ограничивается уважительным кивком.
– А вы любите поэзию? – спрашивает она.
– Больше, чем прозу.
– Кто ваш любимый поэт?
С неописуемой улыбкой Ринри отвечает:
– Омар Хайям.
– Замечательно, – одобряет его выбор девушка. – Рубаи великолепны.
Я так и сияю от гордости, но недолго, потому что Ринри оборачивается, чтобы задать мне вопрос о любимом поэте. Я уже собираюсь раскрыть рот, когда вдруг замечаю, что мои мозги перегорели: мысленно обратившись к папке «Поэты», я констатирую, что она пуста. Обычно это не так. Но сейчас, разумеется из-за переизбытка эмоциональных впечатлений от путешествия, а особенно от сегодняшнего дня, четвертого апреля, у меня точно не все дома.
Все собравшиеся смотрят на меня, включая Юмето, который, похоже, принял решение овладеть французским. Наверное, для того, чтобы написать в «Фейсбуке», кто мой любимый поэт. Мое длительное молчание позволяет рассчитывать на самый неожиданный ответ. Увы, его нет.
Чтобы быть точной, единственное имя, которое приходит мне в голову, – это Виктор Гюго. Но не буду же я его произносить. Не то чтобы я не восхищалась поэзией Гюго, просто подобный ответ лишь еще больше подчеркнул бы скудость моего ума.
– Ну, так все же? – настаивает Ринри.
На вопрос «Что вы читаете?» Виктор Гюго – снова он! – надменно отвечал: «Корова не пьет молока». Так сложилось, что я не Виктор Гюго и нуждаюсь в молоке. К несчастью, нейроны в моей голове бастуют. Малларембодлаполверлавийонкатубанвибашметерверхарпетраркламарвиньи – в моей черепной коробке бурлит магма поэтических имен, но я не могу вычленить ни одного.
Меня подмывает назвать Луизу Лабе или Омара Хайяма, но последний проблеск самолюбия не позволяет мне сделать это. Признав свое поражение, молча пожимаю плечами.