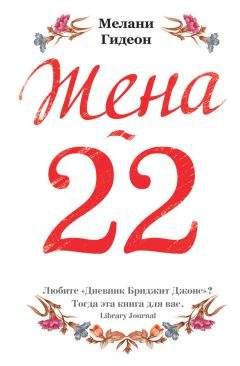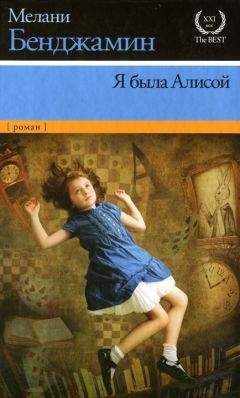Мелани Бенджамин - Жена авиатора

Обзор книги Мелани Бенджамин - Жена авиатора
Мелани Бенджамин
Жена авиатора
Посвящается Алеку
Но слепо зренье – Видеть надо сердцем[1].
© Нарышкина Е., перевод на русский язык, 2015
© ООО «Издательство «Э», 2015
* * *1974
Он улетает.
Хочу ли я запомнить его таким? Когда я смотрю, как он лежит, разбитый, побежденный той силой, которую даже ему не одолеть, то понимаю, что придется тщательно отбирать свои воспоминания. Их слишком много. Пожелтевшие газетные страницы, невероятное количество медалей и трофеев, личные письма от президентов, королей, диктаторов. Книги, фильмы, спектакли о нем и его достижениях, школы и институты, гордо носящие его имя.
Трогательные фотографии ребенка с белокурыми кудрями, голубыми глазами и глубокой ямочкой на подбородке. Помятые копии писем Чарльза к другим женщинам, спрятанные в моем портмоне.
Я ерзаю в кресле, стараясь не потревожить его; мне нужно, чтобы он выспался, восстановился перед серьезным разговором: мне слишком много нужно сказать ему и у нас слишком мало времени. Всем нутром чувствую его уход и ничего не могу с этим поделать, но также не в состоянии больше наблюдать за тем, как он уходит от меня, оставляя в одиночестве, растерянности и недоумении. Мои руки сжаты, зубы так стиснуты, что болит челюсть, я наклоняюсь вперед, как будто могу силой воли заставить самолет лететь быстрее.
Стюардесса заглядывает за штору, отделяющую нас от остальных пассажиров.
– Вам что-нибудь нужно?
Я отрицательно качаю головой, и она уходит, бросив встревоженный и одновременно благоговейный взгляд на худую, изможденную фигуру моего мужа. Он хрипло дышит, его веки дергаются, как будто он все еще борется, все еще чего-то ожидает, даже в своем наркотическом сне. И, зная его, я не сомневаюсь, что так оно и есть.
Неотвеченные вопросы – их по-прежнему так много, что мне не упорядочить их, не выстроить в какой-то определенной последовательности. Я даже не могу выбрать, с какого вопроса начать. Столь многие требуют ответов. Он вообще-то любил меня когда-нибудь?
А я? Всегда ли я любила его? Однажды, много лет назад, я от него ушла. Это было очень давно, однако я прекрасно помню цвет чемоданчика, который взяла, туфли, в которых я перешагнула порог нашего дома. Когда я вернулась обратно, на мне была та же пара. Приходило ли ему когда-нибудь в голову, что он почти потерял меня в тот момент? Не поэтому ли он предал всех нас?
Мне хочется встряхнуть его, разбудить, заставить рассказать об этом, но я не могу решиться, пока еще не могу. Поэтому я заставляю себя сосредоточиться только на одном вопросе – на него не может ответить никто, кроме меня. Остальные оставлю на потом. Задам его после того, как мы приземлимся и дети скажут все, что им нужно.
Тогда, когда мы останемся наедине.
Сделав глоток тепловатой воды, я бросаю взгляд в окно и размышляю в который раз, как сохранить в памяти того единственного, который никогда не был обыкновенным мужчиной, и меньше всего – для меня. Теперь мы летим над облаками, пересекая континент на запад.
Полет.
Летчик навсегда захвачен в плен фотографиями и кинохроникой. Вот он весело машет из кабины самолета, худой и загорелый, в своей слишком просторной форме. Соломенные волосы коротко пострижены, мальчишеская челка треплется на лбу. Или вот стоит, небрежно опершись на свой самолет – тот самый, о котором он всегда говорил с таким почтением, что я понимала: машина – это неотъемлемая часть его сущности. Как оказалось, мне никогда не занять такое же важное место. Знаменитый одномоторный моноплан «Дух Сент-Луиса».
Даже теперь я думаю о полете как о спасении – несешься вместе с птицами по воздушным потокам, а вокруг небо, как огромный тихий храм. И хотя я знаю, что это не так – в ушах до сих пор звучит рев тех ранних двигателей, – но все равно представляю, как летчик пересекает океан в полной тишине. Совсем юный. Рука сжимает штурвал, и он один со своими мыслями, в первый и единственный раз в своей жизни свободен от чужих ожиданий. Свободен от бремени легенды, которое ляжет на него всего лишь через двадцать часов на допотопном летном поле в пригороде Парижа.
И, если я, в конце концов, выберу именно это воспоминание о нем, увижу ли я его лицо? Или снова буду сидеть позади него, как сидела столько раз, что в воспоминаниях остался только затылок с красивыми белокуро-рыжими волосами и шея, напряженно вытянутая вперед? Узнаю ли я его плечи, широкие и напряженные, под мешковатой форменной летной курткой?
Но тогда это будет не он; это будем мы. И я тоже вместе с ним буду лететь на плечах истории в маленькой открытой кабине «Духа Сент-Луиса».
Нет. Я резко задергиваю штору, чтобы больше не видеть облаков. Нет. Он должен один парить над океаном в тот первый раз, как написано в исторических книжках; он должен быть молодым, иметь мальчишеский вид, и будущее, непрожитое, незапятнанное, должно быть его единственным пассажиром.
Несмотря на всю пережитую боль, горечь, предательство – его и мое, – я молюсь богу из моего детства, чтобы запомнить летчика именно таким. Напряженная, но полная надежд фигура, столь красиво вылепленная, как будто является частью силуэта самолета. Он проносится через океан с помощью пары сэндвичей, термоса кофе, железной силы воли и невероятной самонадеянности. Его синие глаза блестят, как солнце над океаном, который плещется за окном кабины так близко, что кажется, будто летчик может дотронуться до него. У летчика все впереди. И я – тоже.
Только он этого еще не знает. Он летит к нам, столь наивный, что пока еще в состоянии взять в плен и разбить мое сердце.
Глава первая
Спустившийся с облаков на землю.
Я твердила про себя эти слова, шептала в восхищении. Спустившийся с облаков на землю. Приземлившийся. Приземленный. Какое тяжелое сравнение, если подумать – я невольно представляю грязные поля с колеями от телег и земляными червями, – хотя люди всегда расценивают этот эпитет как комплимент.
– «Приземленный» – слышишь, Элизабет? Можешь поверить, что папа сказал это про летчика?
– Сомневаюсь, что он понимал, что говорит, – пробормотала сестра, сосредоточенно водя ручкой по листку бумаги и не обращая внимания на раскачивающийся вагон мчащегося поезда. – Энн, дорогая, если бы ты дала мне закончить это письмо…
– Конечно, это не про него, – настаивала я, не желая замечать пренебрежения сестры. За сегодняшний день она писала уже третье письмо! – Папа никогда не понимает, что говорит, за это я его и люблю. Но, честно, в его письме было написано именно так: «Я очень надеюсь, что ты встретишь полковника Линдберга. Он такой приземленный!»
– Ну, папа довольно сильно увлечен полковником…
– Да, я знаю. – Я совсем не собиралась его критиковать! Просто думала вслух. Никогда не стала бы обсуждать это с ним.
Внезапно мое настроение изменилось, как бывало всегда, когда я находилась с кем-нибудь из своих родственников. Отдельно от них я могла быть самоуверенной, почти беззаботной, имеющей собственное мнение. Однажды кто-то даже назвал меня жизнерадостной (хотя, если быть честной, это был первокурсник в колледже, принявший изрядную дозу скверного джина).
Когда бы ни собиралось вместе наше семейство, мне требовалось какое-то время, чтобы расслабиться и приспособиться к ритму их речи и добродушному подшучиванию друг над другом, в котором они охотно упражнялись. Думаю, острое словцо всегда имелось у каждого наготове, даже когда мы жили так далеко друг от друга. Я представляла, как каждый, хоть и погруженный в свою ежедневную жизнь, мысленно посылает мне его, словно мурлычет мотив давней семейной симфонии.
К слову сказать, ген музыкальности обошел меня стороной, как и многие другие фамильные черты – например, знаменитое чувство юмора Морроу. Так что мне всегда требовалось больше времени, чтобы вспомнить свою партию в этих домашних песнях и плясках. Вот уже неделю мы вместе с братом и сестрой ехали в Мексику на поезде, а я все еще чувствовала себя скованно и боролась с застенчивостью. Особенно рядом с Дуайтом, ведь он перешел на последний курс Гротонского колледжа. У брата появилась ранее несвойственная ему бледность и предрасположенность к странным приступам какого-то детского смеха, хотя физически он быстро взрослел и превращался в точную копию нашего отца.
Элизабет была такой же, как всегда, и рядом с ней я чувствовала себя прежней: в ее солнечном присутствии я была понижена в должности и больше не была самоуверенной выпускницей колледжа. В затхлом воздухе вагона я казалась себе такой же несвежей и помятой, как и несчастное льняное платье, которое носила. А она оставалась спокойной и хладнокровной, как манекен. Ни единой складочки, ни единого пятнышка не было на ее элегантном шелковом костюме, несмотря на рыжую пыль, влетавшую в вагон сквозь щели в окнах.
– Я тебя умоляю, не надо все усложнять, Энн, ради бога! Конечно, ты не станешь критиковать папу в лицо – только не ты!