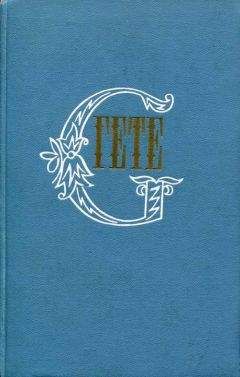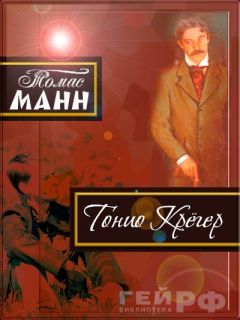Лотта в Веймаре - Манн Томас
Нареченные скорбели о сумасбродстве и бессмысленных страданиях милого юноши и довольно своеобразно старались утешить его, подарив ему силуэт Лотты и один из розовых бантов с того платья, которое было на ней, когда он впервые увидел ее. Заметьте, – эти подарки Лотта делала не одна, а совместно с женихом, с Кестнером, и это было все равно что подаяние, которое принц принимает от очень скромных и славных людей. В начале осени Гете тайком уехал. Внезапно исчез. Четыре месяца длилась идиллия втроем. Впечатления, которыми она обогатила писателя и в которых безраздельная, мучительно самозабвенная искренность чувства все время, несомненно, переплеталась с процессом творчества, – эти впечатления пополнились встречей с другой женщиной, во Франкфурте, куда он направился, – как ни странно, в его жизни нашлось для нее место сразу же после разлуки с Лоттой.
Это была Максимилиана Ла Рош из Эренбрейтштейна, необычайно красивая черноглазая молодая женщина, только что вышедшая замуж за вдового франкфуртского негоцианта Петера Брентано и томившаяся в его мрачном доме, где пахло оливковым маслом и сырами. Гете подолгу просиживал у нее, дурачился с ее пятерыми пасынками, так же как с братьями и сестрами Лотты (он обожал детей, и дети всегда сразу же льнули к нему), вторил на виолончели фортепианной игре Макси, и надо полагать, этим дело не ограничилось. Недаром разъяренный негоциант Брентано ворвался однажды в комнату, началась бурная сцена, пришлось пережить, по словам самого Гете, «ужасные минуты», и дружба оборвалась. Но черными глазами вертеровская Лотта (у настоящей глаза были голубые) обязана госпоже Брентано.
Знакомство с нею немало способствовало пополнению фабулы романа. Еще большую роль сыграл случай самоубийства в кругу знакомых писателя. Секретарь брауншвейгского посольства Иерузалем, человек одаренный, меланхоличный и болезненно чувствительный, пустил себе пулю в лоб от неразделенной любви к чужой жене, а также от обиды за унижения, которые ему приходилось терпеть в свете. Этот случай наделал много шуму. Гете он тоже искренне, по-человечески огорчил и тем не менее оказался для него как нельзя кстати, – смутно вырисовывающаяся вецларская драма приобрела реальное содержание; начался внутренний процесс отождествления с Иерузалемом, осуществившим то, о чем давно и много думал сам писатель, – образ был вполне подходящий, чтобы наделить его всей мировой скорбью и творческой тоской, всем величием и убожеством, всей слабостью, неудовлетворенностью, всеми страстными порывами эпохи и собственного сердца; теперь в этом увлекательном замысле нерешенной оставалась только форма.
Первоначально она мыслилась как драматическая, но из этого ничего не выходило. Ее вытеснила другая, соединявшая в себе элементы драмы, лирики и повествования: форма эпистолярного романа, традиция которого была создана Ричардсоном и Руссо. Молодой писатель уединился от общества и в месяц запечатлел на бумаге «Страдания Вертера», – такая быстрота была бы еще поразительнее, если бы не множество писем и дневниковых записей, сделанных им в вецларскую пору и почти без изменений, даже с теми же датами перенесенных в роман.
Это было чудо искусства, – такого сочетания непосредственности и не по летам зрелого мастерства не встретишь, пожалуй, больше нигде. В книге говорится о юности и гениальности, и сама она – порождение юного гения. Я пишу для людей, которые читали эту удивительную книжку и, без сомнения, знакомы с основательнейшим научным комментарием к ней. Мне остается разве что подчеркнуть или напомнить прекрасные и тонкие детали произведения, которые я, перечитывая его, отметил для себя.
Несколько слов о герое и авторе писем, о юном Вертере. Это сам Гете, без того творческого дара, каким оделила его природа. Чтобы изобразить человека, обреченного смерти, слишком хорошего или слишком слабого для жизни, писателю достаточно показать самого себя, исключив творческий дар, который служит ему опорой и поддержкой, манит продолжать жизненный путь и – повторим определение, данное нами Гете, – делает его жизнедовершителем. Гете не покончил с собой, потому что ему надо было написать «Вертера»… и многое другое. У Вертера же нет иного назначения на земле, кроме страданий от жизни, печальной способности сознавать свои недостатки и гамлетовского омерзения к познанной действительности, которое душит его; поэтому гибель Вертера неизбежна. И «роман» его – нелепая и недозволенная любовь к девушке, принадлежащей другому, – только маска, которой прикрывается его влечение к смерти, более или менее случайная форма предрешенного конца. Лотта очень тонко и верно определяет положение, как ни льстит ей страсть этого незаурядного и даже в слабости своей необычайно привлекательного юноши, как ни велико искушение, ставящее под угрозу ее благоразумие и добродетель. «Разве вы не чувствуете, что сами себя обманываете и умышленно ведете к гибели? – спрашивает она его. – На что вам я, Вертер, именно я, собственность другого? На что вам это? Ох, боюсь, не потому ли так сильно ваше желание, что я для вас недоступна». Горькая насмешка, которой он отвечает на ее слова, показывает, как больно они его задели. И эта обида очень верно подмечена. Ибо психолог-пессимист, который упивается безнадежно мрачным созерцанием глупого человеческого сердца, бывает крайне недоволен, когда психология обращается на него самого.
Я вовсе не хочу сказать, что Вертер щадит себя. Он – самоистязатель, мастер беспощадной интроспекции, самонаблюдения, самоанализа – до предела утонченный продукт христианско-пиетистской духовной культуры и созерцательного изучения душевных глубин. Лессингу, человеку иного духовного склада, не понравился этот образ; он усмотрел в нем повод к отрицанию чуть ли не всей современной христианской культуры, если она способна порождать подобных индивидов. Разве римский или греческий юноша так и по этой причине – по причине несчастной любви – лишил бы себя жизни? – спрашивает он. Это еще куда ни шло. Но никак нельзя согласиться с тем, что утонченная изнеженность, приводящая в своих крайних проявлениях к вырождению, перечеркивает всю христианскую культуру. Нет, христианство явилось таким огромным шагом вперед на пути к совершенствованию человеческой совести, что ради него стоило так страдать и умирать, как об этом, на основе глубоко личных переживаний, с проникновенной последовательностью рассказывает Гете в своем юношеском произведении.
Этот маленький роман – образец строгой логичности, образец умно, изящно и точно, без единого пробела составленной мозаики мельчайших душевных движений, психологических оттенков и характерных черточек, которые в целом дают картину любви и смерти. Мало того, по воле писателя смертная слабость героя воспринимается как избыточная сила. Вертер и в самом деле похож на тех благородных коней, о которых упоминается в книге и которые по инстинкту прокусывают себе вену, чтобы было легче дышать, когда их чересчур разгорячат и загонят. «Мне тоже часто хочется вскрыть себе вену и обрести вечную свободу», – говорит он. Вечную свободу. Вертер, как и Фауст, рвется из ограниченного и относительного в бесконечное и абсолютное. Прочитайте, что пишет Вертер о пространственной дали и будущем, о неуемной тяге за положенный ему предел в пространство и будущее – и он встанет перед вами во весь рост. Есть еще одна, третья область экспансии – область чувства, но и здесь он с отчаянием и презрением к себе убеждается в ограниченности, в несовершенстве человеческой природы. «Чего стоит человек, этот хваленый полубог! Именно там, где силы всего нужнее ему, они ему изменяют. И если он окрылен восторгом или погружен в скорбь, что-то останавливает его и возвращает к трезвому, холодному сознанию именно в тот миг, когда он мечтал раствориться с бесконечности». Жизнь, личность, индивидуальность – для него узилище, он сам употребляет это слово при виде разбушевавшейся природы, с которой жаждет слиться. «Я без раздумья отдал бы свое бытие, – восклицает он, – за то, чтобы вместе с ветром разгонять тучи, обуздывать водные потоки! О, неужто узнику когда-нибудь выпадет в удел это блаженство?» Этот эмоциональный пантеизм мы найдем впоследствии в волюнтаристической философии Шопенгауэра.