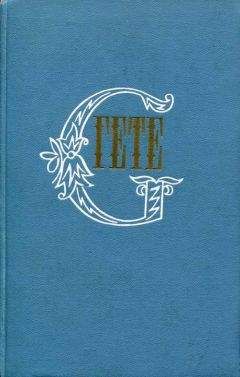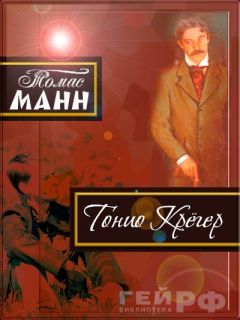Лотта в Веймаре - Манн Томас
Это я называю: восстанавливать себя. Не под силу сну, так как под силу мысли. Ну-с, позвоним Карлу, чтобы он принес кофе. Покуда не согреешься, не подбодришь себя, трудно разобраться в предстоящем дне, понять, на что ты способен и что осилишь. Сначала я было решил остаться в постели и на все махнуть рукой. Это по милости Пфаффа и потому, что они не захотят терпеть мое имя в истории физики. Но все же сумел подтянуться, молодчина, а живительный напиток довершит остальное… Каждое утро, дергая сонетку, я думаю, что ее золоченый гриф совсем не подходит сюда. Чудной осколочек великолепия, он был бы уместнее в парадной половине, чем здесь среди монастырской простоты, в убежище сна, в кротовой норке забот. Хорошо, что я устроил здесь эти комнатки – тихое, скромное, серьезное царство. Хорошо и по отношению к малютке, потому что она видела: задние комнаты служат укрытием не только для нее и ее присных, но и для меня, хотя и по другим соображениям. Это было, – ну-ка вспомни, летом девяносто четвертого, через два года после возвращения в подаренный дом и его перестройки. Эпоха вкладов в оптику – о, mille excuses, господа с учеными званиями, – разумеется, только в хроматику, ибо как смеет подступиться к оптике тот, кто не сведущ в искусстве измерения? Как может он дерзнуть оспаривать Ньютона, этого лживого, лукавого клеветника на свет небесный, который пожелал не больше и не меньше, чтобы чистейшее было слагаемым сплошных туманностей, светлейшее – слагаемым элементов более темных, чем оно само. Злой дурак, меднолобый пророк и затемнитель божьего света. Надо без устали преследовать его. Когда я постиг роль затемнения, постиг, что даже наипрозрачнейшее есть первая ступень тьмы, и открыл, что цвет является убавленным светом, учение о свете дальше пошло уже как по струнке, краеугольный камень был заложен и даже спектр мне больше не досаждал. Как будто призма не средство затемнения! Помнишь, как ты проверял эту штуку в побеленной комнате и стена подтвердила твое учение, осталась бела как встарь, и даже светло-серое небо за окном не имело ни малейших признаков окраски, и только там, где свет натолкнулся на тьму, возник цвет, так что оконная рама показалась пестро раскрашенной. Мошенник был разоблачен, и я впервые позволил себе произнести: «Его учение лживо!» И мое сердце содрогнулось от восторга, как тогда, когда ясно и неоспоримо – в чем я, впрочем, в силу своего доброго согласия с природой никогда и не сомневался – передо мной обнаружилась межчелюстная кость. Они не хотели этому верить, как теперь не хотят верить в мое учение о цвете. Счастливое, мучительно горькое время! Ты становился назойлив, разыгрывал из себя упорствующего маньяка. Разве кость и метаморфоза растений не доказала, что природа уже позволила тебе разок-другой заглянуть в ее мастерскую? Но они не верили в это мое призвание, брезгливо морщились, дулись, пожимали плечами. Ты стал возмутителем покоя. И останешься им. Все они шлют тебе поклоны и ненавидят тебя смертной ненавистью. Только государи, те вели себя по-другому. Я никогда не забуду, как они уважали, поощряли мою новую страсть. Его светлость, отзывчивый, как всегда, тотчас же предоставил мне помещение и необходимый досуг для исследований. А готские герцоги, Эрнст и Август? Первый позволил мне производить опыты в его физической лаборатории, другой выписал для меня из Англии замечательные сложные ахроматические призмы. Ученые педанты оттолкнули меня как невежду и шарлатана, а эрфуртский наместник с благосклонным вниманием следил за ходом моих экспериментов, и статью, которую я ему тогда послал, испещрил собственноручными замечаниями. Все потому, что они знают толк в дилетантизме, наши властители. Любительство – благородно, кто знатен – любитель. И напротив, низки цех, ремесло, звание. Дилетантство! Эх вы, филистеры! Вам и невдомек, что дилетантизм сродни демоническому, сродни гению, ибо он чужд предвзятости и видит вещи свежим глазом, воспринимает объект во всей его чистоте, каков он есть, а не каким видит его эта шайка, получающая из третьих рук представление о вещах, физических и моральных. Как? Потому что я пришел от поэзии к изящным искусствам, а от них к науке, и зодчество, скульптура, живопись были для меня тем же, чем стали позднее минералогия, ботаника, зоология, – я дилетант? Пусть их! Юношей я высмотрел, что башня на Страсбургском соборе должна была быть увенчена пятиконечной короной, и старые чертежи тут же подтвердили мою правоту. Так почему же мне не разглядеть замыслов природы? Как будто это не одно и то же, как будто природа не открывается тому, кто целостен, кто живет с нею в согласии…
Государи и Шиллер. Ибо и он был аристократ с головы до ног, хотя и ратовал за свободу, и обладал природным умом, хотя относился к природе с непростительным высокомерием. Да, этот принимал участие, и верил, и поощрял меня своей рефлективной силой, и, когда я послал ему еще только первый набросок к истории «Учения о цвете», он, с великой своей прозорливостью, усмотрел в нем символ истории наук, роман человеческого мышления, которым мое «учение» стало через восемнадцать лет. Ах, ах, этот умел замечать и понимать! Ибо обладал величием, зоркостью, полетом мысли. Он бы подвигнул меня написать «Космос», всеобъемлющую историю природы, которую я должен создать, к которой меня издавна толкали мои геологические изыскания. Кто же с этим справится, если не я? Я так говорю обо всем, но не могу же сделать все – среди суеты и хлопот, которые поддерживают мое существование, но и похищают его. Время, время! Даруй мне время, природа, и я все совершу. В дни юности один человек сказал мне: ты ведешь себя так, словно мы проживем по сто двадцать лет. Дай мне, дай мне его, дай мне малую толику времени, которым ты располагаешь, всевластная, и я приму на себя весь труд других, нужный тебе и мне одному посильный…
Двадцать два года у меня эти комнаты, и ничто не переменилось в них, разве что канапе вынесли из кабинета, когда мне понадобились шкафы для все умножающихся рукописей, да прибавилось кресло у кровати, подарок обер-камергерши Эглоффштейн. Вот и все перемены и превращения. Но что только не прошло через статично неизменное, какие только беды, труды, замыслы не клокотали здесь. Сколько же тягот господь возложил на человека! «Пусть рука в трудах грубеет. Об удаче бог радеет». Но времени-то, времени утекло! В жар бросает, когда подумаешь! Двадцать два года – немало произошло за этот срок, кое-что время иной раз тебе и приносило, но ведь это же – почти целая жизнь. Держи время! Стереги его любой час, любую минуту. Без надзора оно ускользнет, словно ящерица, юркое и неверное: русалочка. Освящай каждый миг честным, достойным свершением! Дай ему вес, значение, свет. Веди счет каждому дню, учитывай каждую потраченную минуту! Le temps est le seul dont l'avarice soit louable [36]. Вот музыка. В ней угроза для ясности духа, но она же – волшебное средство удержать время, его растянуть, вложить в него диковиннейшее значение. Малютка поет «Бога и баядеру» – не следовало бы, это почти ее собственная история. Поет: «Ты знаешь край?» – слезы выступили у меня на глазах и у нее тоже, у любимой, у любви достойной, которую я украсил тюрбаном и шалью. Она и я, мы стояли в сверкании слез среди друзей. И вдруг она говорит, моя маленькая разумница, тем же голосом, которым пела: «До чего же медленно течет время в музыке; так много событий и чувств заключает она в краткий миг, что начинает казаться, будто прошли долгие, долгие сроки! Что есть краткое и долгое?» Похвалил ее за apercu [37] и в душе с нею согласился. Сказал: любовь и музыка, они обе – миг и вечность… и тому подобный вздор. Прочитал ей «Семь спящих», «Танец мертвых», а затем «Госпожа, о чем лепечешь» и еще «О, сколько чувств! Как мы подвластны им!». Стало поздно, и взошла полная луна. Новый Альберт, Виллемер, уснул, сложив руки на животе, славный малый, мы над ним подтрунивали. Пробил час расставания. Был так бодр, что не мог не показать Буассере на веранде, при свечке, опыт с цветными тенями. Отлично заметил, что она слушала нас со своего балкона. «В полнолунье быть друг с другом…» Теперь он как раз мог бы повременить со своим появлением.