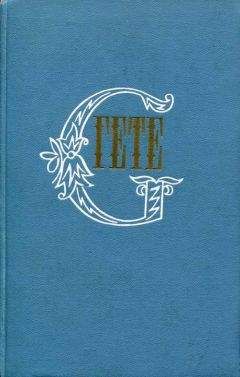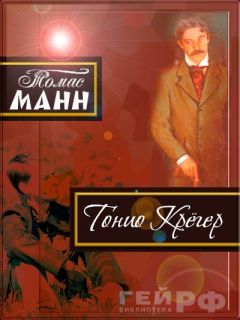Лотта в Веймаре - Манн Томас
– Я едва ли много знаю об этих новых веяниях, – прервала его Шарлотта,
– и думаю, что мой возраст все равно не позволит мне разобраться в них. Я слышала, что есть какие-то благочестивые художники и фантасмагорические писатели, – бог с ними, я их не знаю и не слишком огорчаюсь своим неведением, ибо мне ясно, что плоды их усилий не могут сравняться с творениями, возникшими и покорившими мир в мое время.
Пусть сколько угодно говорят, что им нет нужды сравниться со старым; чтобы в известном смысле превзойти его, – надеюсь вы меня понимаете, я не мастерица говорить парадоксами, и под «превзойти» разумею только, что само время за них, что они его отражают, а потому непосредственно доходят до сердца детей нашего времени, молодежи, и счастливят ее. А ведь в конце концов все дело в том, чтобы быть счастливым.
– Но и в том, – подхватил Август, – в чем находить это счастье. Иные ищут его и находят лишь в гордости, в чести и в долге.
– Хорошо, отлично. И все же я знаю по опыту, что жизнь, отданная долгу и служению другим, порождает в человеке известную черствость и не способствует общительности. С госпожой фон Шиллер вас, как я вижу, связывает чувство дружбы и взаимного доверия?
– Не буду похваляться благосклонностью, которую я заслужил не личными достоинствами, а убеждениями.
– О, одно тесно связано с другим. Я чувствую даже нечто вроде ревности, видя, что материнские права, на которые я немножко претендую, уже присвоены другою. Не сердитесь же на меня, если я все-таки позволю себе проявить материнское участие и спрошу: есть ли у вас друзья и доверенные среди лиц, подходящих вам по возрасту больше, нежели вдова Шиллера.
При этих словах она наклонилась к нему. Август посмотрел на нее взглядом, в котором благодарность мешалась с застенчивой робостью. Это был мягкий и печальный взгляд!
– Нет, по этой части мне не везет. Мы уже говорили о том, что большинство моих сверстников предано убеждениям и помыслам, которые исключают взаимное понимание и привели бы только к постоянным недоразумениям, если б я не считал нужным сдерживать себя. Эпиграфом к нашему времени я бы взял латинскую поговорку: «Победители любезны богам, а побежденные сердцу Катона». Не буду отрицать, что к этому изречению я уже давно отношусь с прочувствованной симпатией за спокойную твердость, с которой разум в нем блюдет свое достоинство, вопреки решениям слепого рока. Как редко это бывает в жизни! Обычно мы видим бесстыдную измену causa victa [33], капитуляцию перед успехом. Ничто на свете так не возмущает меня. О, эти люди! Время научило нас презирать их лакейские души! В тринадцатом году, летом, когда мы принудили отца уехать в Теплиц, я был в Дрездене, оккупированном французами. И посему тамошние жители в честь тезоименитства Наполеона жгли потешные огни и фейерверки. А уже в апреле они встречали государей Пруссии и России иллюминацией, и девушки в белых платьях подносили им цветы. Флюгеру стоило только повернуться… Это слишком жалкое зрелище! Как может молодой человек сохранить веру в человечество, если ему суждено было пережить предательство немецких князей, вероломство прославленных французских маршалов, в беде покинувших своего императора…
– Стоит ли убиваться, мой друг, из-за того, чему все равно нельзя помочь, и терять веру в человечество лишь потому, что люди поступают по-людски, да еще с выродком рода человеческого? Верность хороша и раболепствовать перед успехом недостойно; но человек, подобный Бонапарту, возникает и кончается вместе с успехом. Вы очень молоды, но я бы хотела, как мать, посоветовать вам следовать примеру вашего великого отца, который тогда, на Рейне или Майне, весело наблюдал за огнями, зажженными в память Лейпцигской битвы, считая вполне естественным, что возникший из бездны в бездну же и воротится.
– И все же он не позволил мне воевать против человека из бездны. И, разрешите мне это добавить, тем самым выказал ко мне уважение, ибо порода юнцов, рвавшихся в бой… о, я знаю их и презираю до глубины души этих оболтусов из прусского тугендбунда, этих энтузиастических ослов и пустобрехов с их дешевой мужественностью и ухарским жаргоном, заставляющим меня содрогаться от ненависти…
– Друг мой, я не вмешиваюсь в политические споры наших дней, но позвольте мне заметить, что ваши слова некоторым образом печалят меня. Может быть, мне следовало бы радоваться, как это делает милая госпожа фон Шиллер, что вы привержены нам, старым людям, и все же мне до боли, до страха огорчительно, что эта несносная политика изолирует вас от сверстников, от вашего поколения.
– О нет, – отвечал Август. – Политика не есть нечто изолированное, она тысячью нитей связана с теми, чьи убеждения, верования, воля составляют с ней одно неразрывное целое. Она во всем и повсюду, в нравственном, в эстетическом, даже в том, что имеет видимость чисто духовного и философического; счастливо время, когда оно, не осознав себя, пребывает в девственном состоянии, когда никто и ничто, за исключением ближайших адаптов, не говорит на его языке. В такие мнимо аполитические периоды – я бы назвал их периодами подпочвенной политики – становится возможным любить прекрасное, свободно и независимо от политики, с которой оно находится в тайной, но нерушимой связи. Увы, нам не достался этот жребий – жить в столь мягкие, терпимые времена. Наше время освещено неумолимо ярким светом, и в любом предмете, в любой человеческой слабости, в любой красоте оно дает прорваться наружу сокрытой в них политике. Я лично не стану отрицать, что отсюда проистекает много боли и утрат, много горьких разлук.
– Из этого я заключаю, что вам пришлось испытать горести такого порядка?
– Без сомнения, – отвечал молодой Гете после небольшой паузы, во время которой он пристально рассматривал носки своих башмаков.
– А могли бы вы поведать мне о них, как сын матери?
– Ваше доброе отношение, – отвечал он, – уже исторгло у меня признание в общей форме, так почему же мне не коснуться и частности? Я знал одного юношу, немного старше меня, которого мне хотелось бы видеть своим другом: Арним звали его, Ахим фон Арним, из прусских дворян, красавец собою; его рыцарственный и светлый образ рано запечатлелся в моей душе и уже не покидал ее, хотя я его видел лишь спорадически, через долгие промежутки времени. Я был еще ребенком, когда он впервые появился в поле моего зрения. Это произошло в Геттингене, куда мне довелось однажды сопровождать отца и где мы заметили бравого студента, который в вечер нашего приезда приветствовал отца на улице криком «vivat». Его вид не мог не произвести на нас живого и приятнейшего впечатления, и двенадцатилетний мальчик впредь уже не забывал его ни во сне, ни наяву.
Четырьмя годами позднее он приехал в Веймар, уже не незнакомец в царстве поэзии. Сочетав преданность романтическому старонемецкому направлению с возвышенной мечтательностью и шутливым добродушием, он за это время вместе с Клеменсом Брентано составил и выпустил в свет в Гейдельберге тот сборник народных песен под названием «Чудесный рог мальчика», который современники приняли с растроганной благодарностью, ибо в нем, по существу, были собраны сокровеннейшие их чувства. Автор нанес визит моему отцу, от души поблагодарившему его и Брентано за этот очаровательный вклад в немецкую поэзию, и мы, юноши, близко сошлись. То было счастливое время. Никогда я не радовался тому, что я сын своего отца, так, как в те дни, ибо это обстоятельство сглаживало неравенство лет, образования, заслуг, привлекало ко мне его внимание, заставляло дарить меня уважением и дружбой. Время было зимнее. Искусный во всех физических упражнениях, а потому и на этом поприще далеко превосходивший меня, младшего, он, к величайшему моему восторгу, в одной области стал моим учеником. Арним не бегал на коньках, мне было дозволено учить его, и эти часы легких, быстрых движений, когда я показывал ему свое искусство, наставлял его, были счастливейшими часами из всех, что подарила мне жизнь, – лучших я, откровенно говоря, и не жду от нее.