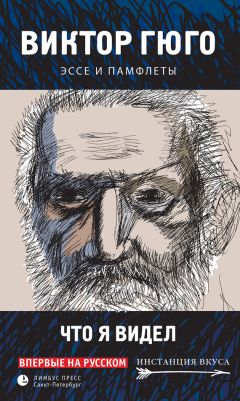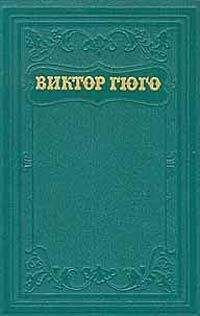Что я видел. Эссе и памфлеты - Гюго Виктор
Поднявшись по лестнице, он вошел. Я не чувствовал себя ни столь молодым, ни столь смелым, как он, и не последовал за ним.
На площади перед зданием я встретил маркиза де Б.
– Вы с заседания академии? – спросил он.
– Нет, – ответил я, – нельзя выйти оттуда, куда не входил. А вы какими судьбами в Париже?
– Я прибыл из Буржа.
Маркиз, ярый легитимист, давеча встречался с доном Карлосом, сыном испанского претендента Карла V. Дон Карлос, которого приверженцы называли принцем Астурийским и будущим королем Испании, а европейская дипломатия именовала графом де Монтемолином, с изрядной долей разочарования наблюдал за тем, как его кузина донна Изабелла выходит замуж за инфанта Франсиско де Асиса, герцога Кадисского. При встрече он выразил маркизу свое удивление и даже показал письмо инфанта, адресованное ему, графу де Монтемолину, в котором было сказано дословно следующее: «Я даже не помыслю о моей кузине, пока ты будешь стоять между нею и мной»3.
Мы обменялись рукопожатием, и месье де Б. ушел.
Когда я возвращался по набережной Морфон-дю и проходил мимо массивных старых башен Сен-Луи4, у меня внезапно возникло желание посетить Консьержери. Не могу сказать, с чего мне вдруг пришла в голову такая мысль. Разве что, это было стремление увидеть воочию, как удается человеку обезобразить внутренность того, что столь прекрасно снаружи. Или же я решил заменить заседание в академии на визит в Консьержери по примеру Фредерика Леметра, который однажды, играя Робера Макера, вдруг заставил написать на афише, что в этот вечер вместо пятого акта будет идти балет5.
Итак, я свернул направо в маленький дворик, позвонил у зарешеченного окошка и, когда мне открыли, назвал свое имя. У меня при себе был отличительный знак пэра. Мне дали сопровождающего, чтобы он проводил меня всюду, куда мне захочется пойти.
Первое, что испытываешь, переступая порог тюрьмы, – это мрачное гнетущее чувство подавленности и духоты. Здесь не хватает воздуха и света. Тюрьма обладает каким-то специфическим освещением и запахом. Воздух тут больше не воздух, свет – не свет. Железные решетки имеют власть даже над столь свободными по своей природе вещами, как воздух и свет!
Мы вошли в огромный зал, служивший прежде караульным помещением Сен-Луи, а ныне разделенный перегородками на множество отсеков и приспособленный для нужд тюрьмы. Повсюду можно было увидеть стрельчатые арки, низкие своды и колонны с капителями; однако все элементы были обточены и сглажены лишенными вкуса архитекторами империи и реставрации. Эти наблюдения справедливы для всех помещений тюрьмы, ибо все здание было переустроено таким образом. Справа от входа, в пяте стрельчатой арки, образованной двумя стенами, еще сохранилось место, где караульные оставляли свои пики.
Помещение, в котором я непосредственно находился, было местом, где прежде осужденные готовились к казни. Слева располагалась канцелярия. Там сидел весьма любезный господин, заваленный папками и окруженный шкафами. Когда я вошел, он поднялся, снял свой колпак, зажег свечу и сказал:
– Месье, вероятно, хочет увидеть Элоизу и Абеляра6?
– Отличная мысль, черт побери, – ответил я.
Служитель взял свечу, вытащил зеленую папку, на которой было написано: «Месячные расходы», и указал на темный угол за большим шкафом. Там я увидел колонну с капителью, представляющую собой монаха и монахиню, стоящих спиной друг к другу. Монахиня держала в руке огромный фаллос. Сие произведение было выкрашено в желтый цвет и называлось «Элоиза и Абеляр».
Мой служитель вновь заговорил:
– Теперь, когда месье увидел Элоизу и Абеляра, он, вероятно, хочет осмотреть камеры приговоренных к смерти?
– Пожалуй, – ответил я.
– Проводите месье, – сказал служитель сопровождающему.
Затем он вновь погрузился в свои папки. Этому миролюбивому человеку было поручено ведение тюремных книг.
Я вернулся в приемную, по пути насладившись видом великолепного стола с изогнутой мраморной столешницей в стиле рококо, который так любил Людовик XV. Остальную часть безобразного помещения, выкрашенного некогда белой краской, скрывала темнота.
Затем я прошел через еще одну темную комнату, загроможденную деревянными кроватями, приставными лестницами, какими-то осколками и потертыми рамами. Сопровождающий, ужасно гремя ключами и засовами, раскрыл передо мной дверь и сказал:
– Вот, месье.
Я зашел в камеру приговоренных к смерти. Это была довольно просторная комната с низкими сводами и старинным каменным полом. Плиты известняка чередовались с плитами из сланца и кое-где вовсе отсутствовали. Достаточно широкое полукруглое окно с навесом, забранное решетками, пропускало тусклый свет. В комнате не было никакой мебели, кроме чугунной печки с рельефными украшениями времен Людовика XV, которые мешала рассмотреть ржавчина, и стоявшего у окна продавленного кресла с дубовыми ручками эпохи Людовика XIV. Кожаная обивка была порвана, и из нее торчали конские волосы. Печка стояла справа от двери. Мой проводник объяснил, что, когда в камере находится узник, сюда ставят складную брезентовую кровать. Один солдат и один тюремщик, которые сменяются каждые три часа, неотлучно находятся при осужденном. У них нет ни кресла, ни кровати, чтобы не было возможности уснуть, так что они вынуждены все время стоять.
Мы вернулись в приемную, куда выходили еще две комнаты: гостиная привилегированных узников, которым было позволено видеть своих посетителей не через двойной ряд решеток, и, как гласила надпись над дверью, «салон господ адвокатов», имевших право свободно общаться со своими клиентами наедине. Этот «салон» представлял из себя длинную комнату с одним окном и длинной деревянной скамьей. Он был похож на первую гостиную. Похоже, что некоторые адвокаты злоупотребляли этими законными встречами наедине (воровки и отравительницы бывают порой весьма хорошенькими). Эти злоупотребления не остались незамеченными, и «салон» снабдили стеклянной дверью. Таким образом, нельзя было слышать, но можно видеть, что там происходило.
В этот момент появился директор Консьержери, которого звали месье Лебель. Это был немолодой уже человек, державшийся с достоинством, но не без хитринки во взгляде. На нем был длинный редингот с лентой ордена Почетного легиона в петлице. Он извинился передо мной, сославшись на то, что его не сразу предупредили о моем приходе, и попросил позволения лично сопроводить меня.
Решетка отделяла приемную от просторной сводчатой галереи.
– Что это? – спросил я у месье Лебеля.
– Прежде это были подсобные помещения кухни Сен-Луи. Они сослужили нам хорошую службу во время беспорядков. Я не знал, что делать с заключенными. Г-н префект полиции послал спросить, много ли у меня мест и сколько заключенных я могу принять. Я ответил: – Двести. – Мне прислали триста пятьдесят и сказали: – Скольких еще вы можете разместить? Я решил, что надо мной смеются. Однако велел приспособить под камеры женский лазарет. – Вы можете, – сказал я, – прислать мне еще сотню. – Мне прислали триста. На этот раз я выразил недовольство, а меня спросили: – Сколько еще вы можете пристроить? – Теперь, – ответил я, – сколько хотите. Месье, мне прислали шестьсот. Я поместил их сюда. Они спали на земле, на связках соломы. Они были очень перевозбуждены. Один из них, Лагранж, республиканец из Лиона, сказал мне: – Месье Лебель, если вы позволите мне увидеться с сестрой, я обещаю вам сделать так, что заключенные будут вести себя тихо. – Я позволил, он сдержал слово, и моя камера на шестьсот человек превратилась в маленький рай. Лионцы были благоразумны и милы вплоть до дня, когда Палата пэров, вспомнив об этом деле, свела их в ходе следствия с парижскими бунтовщиками, которые были заключены в Сент-Пелажи. Те им сказали: – Это безумие – сохранять такое спокойствие. Нужно жаловаться, кричать, приходить в бешенство. – И вот благодаря парижанам мои лионцы взбесились. Тысяча чертей! Они доставили мне много хлопот! Они говорили: – Месье Лебель, это не из-за вас, это из-за правительства. Мы хотим показать ему зубы. – И Ревершон раздевался и оставался полностью обнаженным.