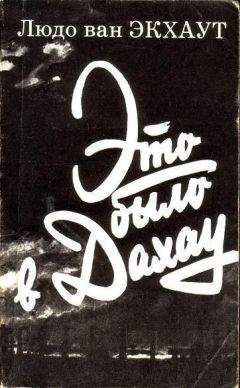Экхаут Ван - Молчать нельзя
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп... стучали деревянные башмаки по камням.
Туман разнес чад крематория по всему лагерю. Музыка лагерного оркестра преследовала их по пятам. Трудно поверить, что эта безотрадная, безнадежная картина завтра уже будет прошлым! Трудно поверить, что они не увидят больше убийств, не услышат криков умирающих.
Не верилось, что он, Януш, скоро увидит Геню, обнимет ее, услышит, как детские губки лепечут: "Татус".
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп.
- В ногу, проклятые ублюдки!
Загрохали сапоги.
Послышалась брань.
Засвистели кнуты.
Вдали, над лесом, появилось солнце, исчезли последние клочья тумана.
У Януша и Генека под одеждой были спрятаны хлеб и вода. Им в убежище будет легче, чем Тадеушу и Казимиру.
Они проработали полдня. Иногда капо устраивали проверку в обеденный перерыв. Лучше, если их побег обнаружится вечером. Тогда трудно будет установить, бежали они по дороге или на работе. Если же побег обнаружат раньше, то в карьере все перевернут вверх дном и какому-нибудь эсэсовцу может взбрести в голову осмотреть насыпь. Тогда все пропало.
К концу дня Генек и Януш поднялись на насыпь. Они постояли, осмотрелись и сняли брюки на случай, если их кто-то видит.
В Бжезинку входил длинный состав с товарными вагонами. Один из капо камнем добивал заключенного. Над Биркенау, как всегда, висело черное облако. Блоки-конюшни мрачными силуэтами вырисовывались вдали. Высокая стена проволочного заграждения. Сторожевые вышки. Неужели правда, что они в последний раз видят эти мрачные картины? Они присели, поспешно отгребли щебень и отодвинули крышку ящика. С бешено колотящимся сердцем, в страхе, что их заметят в последний момент, беглецы забрались в ящик, горячо надеясь на удачу. Они лежали рядом, со слезами на глазах смотрели на голубое небо. Ящик был коротковат, пришлось поджать ноги, но выдержать два-три дня можно. Выдержали же Казимир и Тадеуш...
Они прислушивались к доносившимся сквозь туман брани, крикам, выстрелам, скрипу тачек.
Появился Мариан.
- Устроились?
- Да! Закрывай скорей.
- Я буду молиться за вас.
- Иди к нам, места хватит!
- А закроет кто?
- Первый, кого попросим! Я спущусь вниз в карьер и...
- Нет! Мое место здесь. Теперь я понял, почему я тут. Мне кажется, я не ушел бы отсюда, если бы даже шкопы отпустили меня на свободу. Верующим я был с детства, но здесь я обрел новое - веру в людей...
- Если не хочешь, то быстрей закрывай крышку! - перебил его нервничавший Генек.
- Я буду за вас молиться!- повторил ксендз.
- Осторожней с Рихтером,- предупредил Януш. Он не очень-то рад, что ты знаешь о его сделке. Попытайся перейти в другой блок!
- Не беспокойтесь обо мне. Если все взвесить как следует, то окажется, что Рихтер ничего не может мне сделать!- ответил Мариан.
Януш задвинул крышку, и они услыхали, как на доски посыпались камни. В ящике стало темно, как в могиле. Но вот Мариан расчистил два отверстия для воздуха, и лучик света проник к ним. Вентиляция была в порядке.
- Вы меня слышите?- глухо прозвучал голос Мариана.
- Да!
- Завтра я, безусловно, опять буду в штрафной. Рихтер вряд ли захочет лишиться такого удовольствия. Я не смогу предупредить, вас, когда пройдет опасность. Переждите на всякий случай три дня...
- Всего тебе наилучшего, Мариан,- простился с ним Януш
- Ты был хорошим товарищем,- добавил Генек.
Из карьера до них доносился приглушенный гул, время от времени раздавались выстрелы. Крематорий требовал своей ежедневной порции. Мертвецов должны поставлять все команды.
Началось томительное ожидание.
На вечерней поверке опять завыли сирены. Как ни странно, но немцы не поняли, что в течение нескольких дней из карьера совершен второй побег. Оказывается, Рихтер после ухода команд отважился вписать Януша и Генека в группу, которая сносила дома в деревне Освенцим. Он надеялся, что днем поверки не будет. Он пришел к выводу, что кровно заинтересован в удаче этого побега.
Если этих двоих поймают и прижмут как следует, они, пожалуй, выболтают о подкупе. Тогда ему несдобровать. Сейчас о подкупе знает только ксендз. Но с этим расправиться просто.
Вой сирены. Лай собак. Эсэсовцы бросились в погоню. В глазах тысяч изнуренных пленников - скрытое злорадство. Дежурный офицер кричит, что завтра утром из восемнадцатого блока возьмут двадцать заложников.
Мариан вернулся в блок. Он знал, что скоро явится за деньгами Рихтер. Так и случилось. Но Рихтеру было мало денег, ему нужно было убрать единственного свидетеля.
Хриплым от нетерпения голосом он выкрикнул номер Мариана. Мариан прошел за ним в конторку.
- Они у тебя?- набросился Рихтер.
- А если нет?
- Я тебя убью.
- А если да?- спокойно спросил Мариан.
- Давай деньги, проклятый святоша!
Мариан вынул из кармана деньги и швырнул их Рихтеру. Тот дрожащими руками схватил бумажки и стал их пересчитывать. Пять тысяч!
Он свирепо посмотрел на ксендза.
- Надеюсь, тебя не надо учить, что о таких делах помалкивают?!
- Я буду молчать!
- Конечно, будешь! Я заставлю тебя молчать!- пригрозил Рихтер.
Он завернул деньги в большой носовой платок и сунул их в карман.
- Пошли!
- В одиннадцатый блок?- мягко спросил Мариан.
- Да!
- Если можешь, посади меня в общую камеру.
- Зачем?
- Может быть, я смогу еще сделать добро, прежде... прежде чем меня не станет...
- Я убью тебя, понимаешь? И нечего трепаться! Пошли!
- Я готов!- ответил Мариан.
На сердце у него было легко. Казалось, что он окреп физически. Он твердо шел впереди Рихтера в одиннадцатый блок. Он радовался тому, что идет на смерть, и стыдился этого, считая в некотором роде трусостью уход из такой жизни. Бог может быть доволен им. Теперь он знает, что перед богом все равны. Хороша всякая вера, приносящая добро, как бы она ни называлась. Бог достиг своей цели и забирает его из этого страшного мира.
Наверное, и у немцев есть вера, подумал Мариан. Если бы они ни во что не верили, то они не превратились бы в таких бессовестных извергов, чудовищных садистов. Только их вера порочна и служит злу. У всех же других евреев, христиан, коммунистов - он открыл веру в справедливость и высокое назначение человека.
Может быть, бог позволил силам зла временно торжествовать, чтобы все остальные люди на земле стали братьями? Может быть, бог избрал эсэсовцев своим орудием, чтобы потом, позже, настала эпоха прекрасной жизни? Может быть, и Юп Рихтер, чьи тяжелые шаги он слышит позади себя, тоже орудие божье?
- Я буду молиться за тебя там, на небесах,- сказал он Юну.
- Повернись!
Мариан повиновался, казалось, что его лицо излучает свет.
- Повтори-ка!
- Я буду за тебя молиться,- повторил Мариан.
Тяжелый сапог со страшной силой ударил его в пах. Мариан упал на колени, корчась от боли, но продолжал улыбаться Юпу.
- Ты - орудие божье,- прошептал он. - Вы слабых превращаете в героев, врагов - в братьев. Ты - орудие божье, Юп Рихтер, я буду за тебя молиться...
- Я - орудие смерти! Слышишь ты, вонючий, вшивый ясновидец,- заорал Юп, выходя из себя от слов и улыбки Мариана.
Он бил сапогами по лицу и тощему телу ксендза, ломая ему ребра. Он топтал беднягу до тех пор, пока Мариан Влеклинский не превратился в кровавое месиво. Несчастный избавился от пыток в одиннадцатом блоке.
Но Рихтеру не удалось стереть с разбитого лица Мариана радостную улыбку победителя. Юп визгливо ругался, видя, что, несмотря на разорванную щеку, расплющенный нос и разбитые губы, покойник улыбается. Эта улыбка будет преследовать его несколько недель, пока он в свою очередь не познакомится со страшной действительностью Освенцима.
Подошел эсэсовец.
- Эй, Юп, чего так разозлился?
- Готов!- с сожалением произнес Юп. - А я собирался проучить его в одиннадцатом блоке. Это был ксендз...
- Почему же не довел до блока?
- Он обозлил меня,- еще не отдышавшись, сообщил Юп. - Эта свинья обозвала меня орудием божьим!
Эсэсовец так и затрясся от смеха.
- О! Это стоит рассказать! Юп Рихтер - орудие божье!- Он поспешил к приятелям.
Беглецы слышали вой сирен, затем наступила тишина. Они не могли знать, что поиск велся в другом месте. Там, где работала команда, в которую их вписал Рихтер.
Была глубокая ночь, когда до них донеслись грубые голоса и лай собак. Собаки были страшнее всего, но их обоняние в лагере притуплялось. Стереотипный запах нищеты, голода, несчастий и грязи исходил от каждого заключенного. Собаки озлобленно лаяли, рвались с привязи и хватали заключенных за ноги, иногда по приказу хозяина перегрызали им глотки.
Но ни эсэсовцы, ни собаки не искали беглецов на насыпи в карьере. Им по душе был запах крови, а не запах экскрементов.
Медленно тянулись минуты,
- Мне нужны двадцать человек. Прежде чем повесить, я собственноручно выколю им глаза, вырежу языки,- бесновался Грабнер.