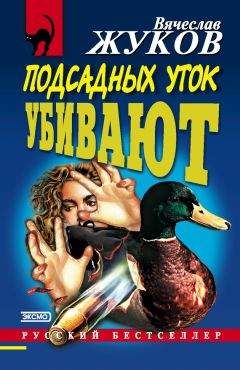За рекой, в тени деревьев - Хемингуэй Эрнест Миллер
Их тоже не пекут и не выращивают, как картошку. Мы получали кое-какое пополнение, но, помнится, я думал: проще и целесообразнее пристреливать их сразу, на месте, где они высаживаются, приезжая из тыла, чем потом тащить оттуда, где их все равно убьют, и хоронить по всем правилам. Чтобы везти их трупы, нужны люди и горючее; чтобы рыть могилы, опять же нужны люди. А эти люди тоже должны воевать и подставлять грудь под пули.
Все время сыпал снег или какая-то крупа, похожая на снег, был дождь, туман; дороги были заминированы, кое-где лежало чуть не по четырнадцать мин в ряд, машины вязли в грязи, буксовали, мы постоянно теряли машины и, конечно, людей, которые в них ехали.
Противник вел адский минометный огонь и простреливал все просеки из пулеметов и автоматов; он продумал все до тонкостей, и, как ни хитри, ты все равно попадал в ловушку. К тому же он пустил в ход тяжелую артиллерию.
Человеку очень трудно было там выжить, даже если он сидел смирно. А мы еще ходили в атаку — все время, изо дня в день.
Не будем больше об этом думать. Ну его к черту. Вот вспоминаю еще только два случая, чтобы от них отвязаться. Один произошел на голом пригорке, по дороге в Гроссагау.
Как раз перед тем, как выбраться на открытое место — а оно просматривалось противником и простреливалось полевыми пушками, — вы попадали в мертвое пространство, где вас могли достать только гаубичным заградительным огнем или из минометов справа. Когда мы выбили противника, оказалось, что его минометчики хорошо просматривали и этот участок.
И все-таки это было довольно безопасное место; ей-богу, не вру, да тут и не соврешь. Попробуй-ка, обмани тех, кто побывал в Хертгенском лесу; соври — и тебя уличат, не успеешь и рта открыть, будь ты хоть трижды полковник.
Вот тут мы и встретили грузовик. Лицо у водителя было такое же серое, как у всех, и он сказал:
— Господин полковник, там, впереди, посреди дороги, лежит убитый солдатик; всякий раз, когда идет машина, приходится по нему ехать, и это, наверно, производит на людей скверное впечатление.
— Мы его уберем.
И мы его убрали с дороги.
Не могу забыть, какой он был на ощупь, когда мы его поднимали, как его сплющило и как странно видеть сплющенного человека.
И еще. Мы сбросили целую кучу белого фосфора на город, прежде чем его, так сказать, захватили. Я первый раз в жизни видел, как немецкая собака жрет поджаренного фрица. Потом я видел, что за него принялась еще и кошка. Голодная кошка, хотя в общем и симпатичная с виду. Но ты бы могла себе представить, дочка, чтобы добрая немецкая кошка закусывала добрым немецким солдатом? Или что добрая немецкая собака может слопать окорок доброго немецкого солдата, поджаренный на белом фосфоре?
Сколько можно рассказывать таких историй? Уйму, но что проку? Расскажи их хоть тысячу — войне все равно не помешаешь. Люди возразят: мы же теперь не воюем с фрицами, да и кошка ела не меня и не моего брата Гордона, тот был на Тихом океане. Может, Гордона съели крабы. А может, он просто растворился в океане.
В Хертгене убитые превращались в сосульки, а холод стоял такой, что даже мертвые были румяными от мороза. Очень это было странно. Летом все мертвецы были серые и желтые, как восковые куклы. А зимой мертвецы были румяные.
Настоящий солдат не станет рассказывать, как выглядят свои мертвецы, — сказал он, обращаясь к портрету. — Впрочем, с этой темой я покончил. А вот как насчет роты, которая полегла на мосту? Что ты скажешь о ней, старый вояка?
Они мертвы, — сказал он. — Лопни мои глаза.
Так с кем же мне чокнуться бокалом вальполичеллы? Скажи, портрет, когда мне разбудить твой оригинал? Нам еще надо зайти к ювелиру. И я буду шутить и занимать тебя веселым разговором.
А что на свете есть веселого, а, портрет? Тебе ведь и карты в руки. Ты умнее меня, хотя я и больше твоего пошатался по свету.
Ладно, нарисованная девушка, — сказал полковник, не произнося вслух ни слова, — на этом мы кончим рассказ, а ровно через одиннадцать минут я разбужу живую девушку, мы выйдем с ней в город, будем веселиться, а тебя оставим здесь, и тебя здесь запакуют.
Я не хотел тебя обидеть. Это просто неуклюжая шутка. Я вообще не хочу тебя обижать, ведь отныне мы будем жить с тобой вместе. Надеюсь, что будем жить", — добавил он и выпил бокал вина.
ГЛАВА 36
День был ветреный, холодный и ясный; они стояли у витрины ювелира и рассматривали фигурки негритят из черного дерева, украшенные драгоценными камнями. «Какой из них лучше?» — думал полковник.
— Какой тебе больше нравится, дочка?
— Пожалуй, тот, что справа. У него лицо симпатичнее, верно?
— Они оба симпатичные. Но живи мы с тобой в прежние времена, я бы все же предпочел, чтобы тебе прислуживал тот.
— Хорошо. Тогда купим его. Давай войдем в магазин и посмотрим на них поближе. А я спрошу, сколько они стоят.
— Я один схожу.
— Нет, цену лучше спрошу я. С меня возьмут меньше. Ты же все-таки богатый американец.
— Et toi 54, Рембо?
— Верлен из тебя вышел бы очень смешной, — сказала девушка. — Давай будем какими-нибудь другими знаменитостями, ладно?
— Входите, ваше величество, и поскорее купим эту проклятую побрякушку.
— Настоящий Людовик Шестнадцатый из тебя тоже не получится.
— Но зато я поеду вместе с тобой на казнь и плюну с эшафота.
— Давай забудем о казнях и обо всех горестях, купим игрушку, а потом пойдем к Чиприани и будем играть в каких-нибудь знаменитостей.
Они вошли в магазин и попросили показать им негритят. Девушка узнала, сколько они стоят, завязался оживленный разговор, после чего цену порядком снизили. Все же денег потребовалось больше, чем было у полковника.
— Я схожу к Чиприани и возьму у него взаймы.
— Не надо, — сказала девушка. Она попросила продавца: — Положите это в футляр и отправьте к Чиприани. Скажите, что полковник просил заплатить и спрятать до его прихода.
— Пожалуйста, — сказал продавец. — Все будет сделано. Они снова вышли на улицу, на солнце, под беспощадные удары ветра.
— Имей в виду, твои камни я оставил в сейфе «Гритти» на твое имя, — сказал полковник.
— Не мои, а твои.
— Нет, — сказал он ей мягко, но так, чтобы она хорошенько поняла. — Есть вещи, которых делать нельзя. Ты это знаешь. Ты вот не выходишь за меня замуж, и я это понимаю, хотя и не могу с этим согласиться.
— Ну что ж, — сказала девушка. — Понятно. Но возьми хоть один камень на счастье.
— Нет. Не могу. Он слишком дорого стоит.
— И портрет стоит денег!
— Это другое дело.
— Да, — признала она. — Верно. Кажется, я начинаю понимать.
— Я бы взял у тебя в подарок лошадь, если бы я был беден, молод и хорошо ездил верхом. Но не мог бы принять автомобиль.
— Да, теперь я наконец поняла. Куда бы нам пойти, сейчас, сию минуту, чтобы ты мог меня поцеловать?
— В этот переулок, если ты тут никого не знаешь.
— А мне все равно, кто здесь живет. Я хочу, чтобы ты меня покрепче обнял и поцеловал.
Они свернули в переулок и дошли до тупика, которым он кончался.
— Ох, Ричард, — сказала она. — Дорогой…
— Я тебя люблю.
— Пожалуйста, люби меня.
— Я тебя люблю.
Ветер поднимал ее волосы и закидывал ему за шею, и он поцеловал ее снова, чувствуя, как ветер треплет по его щекам шелковистые пряди.
Потом она вдруг резко вырвалась, посмотрела на него и сказала:
— Пойдем-ка лучше в «Гарри».
— Пошли. Давай играть в великих людей?
— Да, — сказала она. — Давай играть, будто ты — это ты, а я — это я.
— Давай, — сказал полковник.
ГЛАВА 37
У «Гарри» никого не было, кроме редких утренних посетителей, которых полковник не знал, и двоих людей, занимавшихся своим делом за стойкой.
В баре бывали часы, когда он наполнялся знакомыми с такой же неумолимой быстротой, с какой растет прилив у Мон-Сен-Мишеля. «Вся разница в том, — думал полковник, — что часы прилива меняются каждый день, а часы наплыва у „Гарри“ неизменны, как Гринвичский меридиан, метр-эталон в Париже или самомнение французского командования».