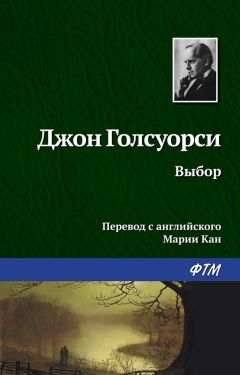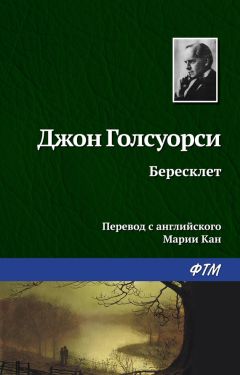Остров фарисеев. Путь святого. (сборник) - Голсуорси Джон
– Мы могли бы проскакать по лугам, два раза пересечь реку, а потом домой, но вы устанете.
Антония покачала головой. Тень от соломенной шляпы легла на ее щеку, розовое ухо просвечивало на солнце.
После того поцелуя в саду что-то новое появилось в их отношениях: внешне Антония вела себя с ним по-прежнему дружески, спокойно и весело, – но Шелтон чувствовал, что в ней произошла внутренняя перемена, как чувствуется перед изменением погоды, что ветер стал каким-то иным. Своим поцелуем он запятнал ее непорочную чистоту; он пытался стереть это пятно, но след все же остался, и след этот был неизгладим.
Антония принадлежала к самой цивилизованной части самой цивилизованной в мире нации, чье кредо гласит: «Можно любить и ненавидеть, можно работать и жениться, но никогда нельзя давать волю своим чувствам; дать волю чувствам – значит оставить след в памяти окружающих, а это непростительно. Пусть наша жизнь будет такой же, как наши лица, пусть не будет на ней ни складок, ни морщинок – даже от смеха. Только тогда мы будем действительно цивилизованными людьми.
Шелтон чувствовал, что Антонию томит смутное беспокойство. То, что он дал волю своим чувствам, было, пожалуй, даже естественно и могло лишь на мгновение смутить ее, но из-за него у Антонии появилось ощущение, будто и она дала волю своим чувствам, а это уже было совсем другое дело.
– Вы разрешите мне заглянуть в гостиницу «Голова епископа» и узнать, нет ли для меня писем? – спросил он, когда они проезжали мимо старой гостиницы.
Шелтону подали засаленный тонкий конверт, на котором старательным четким почерком было выведено: «М-ру Ричарду Шелтону, эсквайру». Казалось, человек, писавший эти строки, вложил в них всю душу, только бы письмо дошло по назначению. Оно было трехдневной давности, и, как только они тронулись в путь, Шелтон принялся за чтение. Письмо гласило:
«Гостиница «Королевский павлин», Фолкстон.
Mon cher monsieur Шелтон!
Вот уже третий раз берусь за перо, чтобы написать Вам, но так как я ничем не могу похвастать, кроме неудач, то все откладывал письмо до лучших дней. В самом деле, мною овладело столь глубокое уныние, что, если бы я не считал своим долгом сообщать Вам о своей судьбе, право, не знаю, хватило ли бы у меня духа написать Вам даже сейчас. Les choses vont de mal en mal [34]. Говорят, здесь никогда еще не было такого плохого сезона. Полный застой. И тем не менее у меня тысяча мелких дел, которые отнимают уйму времени, а оплачиваются так ничтожно, что этого не хватает даже на жизнь. Просто не знаю, как быть; одно мне ясно: в будущем году я сюда ни в коем случае не вернусь. Владелец этой гостиницы, мой дорогой хозяин, принадлежит к той многочисленной категории людей, которые не крадут и не занимаются подлогами лишь потому, что у них нет в этом необходимости, а если бы даже такая необходимость и появилась, у них не хватило бы на это храбрости; к той категории людей, которые не изменяют женам, потому что в них воспитали веру в незыблемость брака и они знают, что, нарушив брачный обет, они рискуют оказаться в неприятном положении и погубить свою репутацию; которые не играют в азартные игры, потому что не смеют; не пьют, потому что это им вредно; ходят в церковь, потому что туда ходят их соседи, а также для того, чтобы нагулять аппетит к обеду; не убивают, потому что, не преступая остальных заповедей, не имеют к тому оснований. За что же уважать таких людей? А между тем они пользуются большим почетом и составляют три четверти нашего общества! Эти господа придерживаются одного правила: они закрывают на все глаза, никогда не утруждают свой мыслительный аппарат и плотно затворяют двери, опасаясь, как бы бездомные псы не забрели к ним и не искусали их».
Шелтон перестал читать, чувствуя на себе вопросительный взгляд Антонии, которого он в последнее время стал бояться. В глазах ее был холодный вопрос. «Я жду, – казалось, говорили они. – Я хочу, чтобы вы рассказали мне что-нибудь – что-нибудь полезное, что помогло бы мне верить в жизнь, но не заставило бы слишком много думать».
– Это письмо от того молодого иностранца, – сказал Шелтон и снова погрузился в чтение.
«У меня есть глаза – вот я и пользуюсь ими; к тому же у меня есть нос, pour flairer le humbug [35]. Я вижу, что никакая самая большая ценность не может сравниться со «свободой мысли». У меня можно отнять что угодно, on ne peut pas m’оter cela! [36] Здесь для меня нет никакого будущего, и я, конечно, уже давно бы уехал отсюда, будь у меня деньги, но, как я уже сообщал Вам, то, что я в состоянии здесь заработать, едва дает мне de quoi vivre. Je me sens еcoeurе [37]. He обращайте, пожалуйста, внимания на мои иеремиады. Вы же знаете, какой я пессимист! Je ne perds pas courage [38].
От души надеюсь, что Вы здоровы. Сердечно жму Вашу руку и остаюсь преданный Вам Луи Ферран».
Шелтон ехал, держа в руке распечатанное письмо и внутренне негодуя на то странное смятение, которое вызвал Ферран в его душе. Казалось, этот бродяга-иностранец задел в его сердце давно молчавшую струну, и она зазвучала жалобно и возмущенно.
– Что он пишет? – спросила Антония.
Показать ей письмо или нет? Если невозможно сделать это теперь, то что же будет потом, когда они поженятся?
– Не знаю, как и сказать, – ответил он наконец. – В общем, не очень веселые вещи.
– Какой он, Дик? Я хочу сказать – внешне. Производит впечатление джентльмена или…
Шелтон чуть не расхохотался.
– В сюртуке у него вполне приличный вид, – ответил он. – Отец его был виноторговцем.
Антония слегка ударила себя хлыстом по юбке.
– Конечно, если там есть что-нибудь, чего мне не полагается знать, то лучше не говорите, – тихо сказала она.
Вместо того чтобы успокоить Шелтона, эти слова оказали на него как раз обратное действие. Такие отношения, когда от жены приходится скрывать половину своей жизни, вовсе не казались ему идеальными.
– Дело только в том, что все это не очень весело, – с запинкой повторил он.
– Ну и не надо! – воскликнула Антония и, тронув лошадь хлыстом, поскакала вперед. – Терпеть не могу все мрачное.
Шелтон закусил губу. Не его вина, что в жизни так много мрачных сторон. Он знал, что ее слова направлены против него, и, как всегда, испугался, заметив, что она им недовольна. И он помчался догонять ее, пустив лошадь галопом по выжженной солнцем траве.
– Что с вами? – спросил он. – Вы рассердились?
– Вовсе нет.
– Дорогая моя, чем же я виноват, что на свете так много невеселого! Ведь у нас есть глаза, – добавил он, вспомнив фразу из письма.
Даже не взглянув на него, Антония снова хлестнула лошадь.
– В общем, я не хочу видеть мрачные стороны жизни, – сказала она. – И я не понимаю, зачем вам надо их видеть? Нехорошо быть недовольным.
И она ускакала вперед.
Не его вина, что в мире существуют тысячи всевозможных людей и тысячи всевозможных точек зрения, с которыми ей никогда не приходилось сталкиваться! «Какое право имеет наш класс смотреть на других сверху вниз? – думал он, пришпоривая лошадь. – Мы единственные на свете существа, которые понятия не имеют о том, что такое жизнь».
Антония неслась галопом; из-под копыт ее лошади в лицо Шелтона летели куски высохшего дерна и пыль. Шелтон почти догнал ее: еще немного, и сможет достать до нее рукой, – но она точно играла с ним: в следующую минуту он снова остался далеко позади.
Антония остановила лошадь у дальней изгороди и, сорвав несколько веточек, стала обмахивать ими разгоряченное лицо.
– Ага, Дик, я знала, что вам не догнать меня! – И она потрепала по шее гнедую кобылу, которая с презрительной усмешкой повернулась в сторону коня Шелтона, раздув ноздри; бока ее бурно вздымались, постепенно темнея от пота.