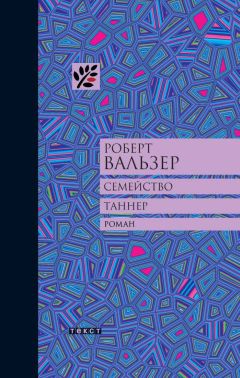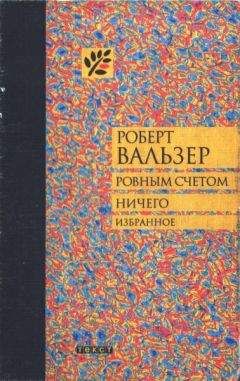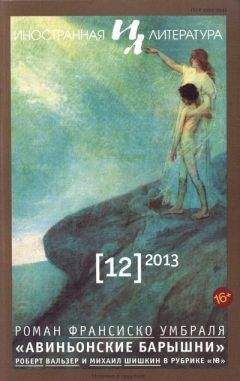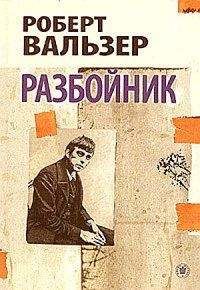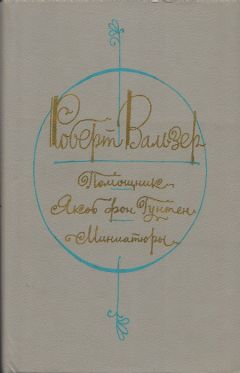Семейство Таннер - Вальзер Роберт Отто
Симон все больше уверялся, что канцелярия представляла собою маленький мирок в пределах большого. Зависть и честолюбие, ненависть и любовь, обман и честность, вспыльчивость и скромность проявлялись здесь в мелочах, ради пустяковых преимуществ, не менее отчетливо, нежели везде, где изо дня в день шла борьба с нуждою. Любое чувство и любое устремление могли найти здесь почву и произрасти, хоть и в незначительном масштабе. Блестящие знания, разумеется, не находили в канцелярии применения. Носитель их мог блеснуть разве что экспромтом, они помогали снискать уважение, но ничуть не помогали приобрести костюм поприличнее. Среди писарей было несколько таких, что превосходно говорили и писали на трех языках. Их использовали как переводчиков, но зарабатывали они не больше тех, кто тупо надписывал адреса или перебеливал рукописи, ведь в канцелярии никому не протежировали, иначе она бы утратила свою цель и смысл. Существовала-то она лишь затем, чтобы обеспечить безработным скудную жизнь, а не затем, чтобы платить возмутительно высокое жалованье. Будь рад, если ты вообще в восемь утра получил работу. Нередко случалось, что управляющий говорил группе ожидающих: «Мне очень жаль. Нынче пока ничего нет. Зайдите в десять. Может, поступят новые заказы!» А в десять говорил: «Лучше вам зайти завтра утром. Сегодня вряд ли что будет!» Отвергнутые, среди которых не единожды бывал и Симон, один за другим медленно и хмуро спускались по лестнице, выходили на улицу, несколько минут стояли тесным кружком, будто собираясь с мыслями, а затем один за другим расходились на все четыре стороны. Бродить по улицам без гроша в кармане – удовольствие небольшое, каждый знал, и каждый думал: «Каково-то будет зимой?»
Иногда в канцелярию приходили весьма хорошо одетые люди с изысканными манерами и тоже просили работу. Им управляющий обыкновенно говорил: «Сдается мне, вам больше под стать суета светской жизни, а не канцелярия. Здесь надобно целый день сидеть смирно, гнуть спину и усердно трудиться, причем за маленькие деньги. Я говорю с вами совершенно откровенно, поскольку чувствую, что вам такое не подойдет. К тому же вы отнюдь не производите впечатления плачевной, скудной нищеты. А я обязан в первую очередь давать работу беднякам, тем, на ком платье чуть ли не висит лохмотьями как доказательство бедственного их положения. Вы же выглядите чересчур солидно, поэтому было бы грешно давать вам здесь работу. Ищите себе место в обеспеченном мире, вот что я вам советую. По всей видимости, вы недооцениваете уныние канцелярий, коли являетесь просить работы с таким бойким видом, будто пришли на танцы. Здесь кланяются неуклюже, своенравно, а зачастую не кланяются вовсе, вы же поклонились мне совершенно светским манером. Так не годится, у меня нет для вас ни работы, которая бы вам подошла, ни обстоятельств, в какие бы вы вписались. Как продавец или гостиничный секретарь вы мигом сыщете место, если только не намерены искать в этом городе приключений, а этакая мысль напрашивается у меня сама собой. Здесь молодой человек разве что падет духом, на иные приключения рассчитывать ему не приходится. Приходящие сюда знают, зачем пришли. А вот вы, наверное, не знаете. Всем своим видом вы обижаете моих работников и, несомненно, согласитесь со мной, если бросите взгляд в контору. Посмотрите на меня, я тоже повидал мир, знаком с множеством больших городов и не сидел бы здесь, если б не необходимость. Приходящие сюда уже изведали беду и всяческие невзгоды. Сюда приходят шалопаи, попрошайки, бедолаги и потерпевшие крушение – словом, несчастные. И я вас спрашиваю: вы из таких? Нет, а потому будьте добры, покиньте это место, где нет воздуха, каким вы могли бы долго дышать. Я знаю тех, кто здесь на месте! Хорошо знаю! Прощайте!»
Затем он обычно взмахом руки, с улыбкой выпроваживал этих людей, не подходящих для канцелярии. Управляющий обладал лоском и образованностью и при случае охотно демонстрировал то и другое подобным нежданным-негаданным посетителям, являвшимся сюда скорее из любопытства, чем по необходимости.
Подле канцелярии тянулся спокойный, зеленый, глубокий старинный канал, давний крепостной ров и протока, связывающая озеро с рекой, которую таким манером подпитывали озерною водой, чтобы несла она ее в далекие моря. Вообще, здешний квартал был самым тихим в городе, уединенным и даже каким-то деревенским. Незадачливые просители, спустившись по лестнице, любили немножко посидеть на парапете этого канала, а со стороны казалось, будто большие, диковинные экзотические птицы рядком отдыхают у воды. Зрелище несколько философическое, и в самом деле, иной смотрел вниз, в зеленый, неживой водный мир и столь же тщетно размышлял о беспощадности судьбы, как философ у себя в кабинете. Канал чем-то располагал к мечтаниям и размышлениям, а у безработных было для этого множество поводов.
Одновременно канцелярия служила этакой биржей труда. К примеру, некий господин или некая дама заходили в кабинет к управляющему и говорили: мне, мол, нужен человек на один день или на несколько, то бишь помощник в доме, по хозяйству. Тогда управляющий с порога кабинета оглядывал своих работников и по некотором размышлении окликал кого-нибудь по имени, в таком случае означенный человек получал место – на восемь дней, на один-два, а то и на четырнадцать. Тот, кого выкликали по имени, непременно вызывал зависть, ведь всяк охотно работал за пределами канцелярии – денег больше, а сама работа занятнее. Вдобавок от сердобольных хозяев этот человек получал утром и под вечер изрядный завтрак и полдник, что опять-таки весьма немаловажно. Оттого-то всяк рвался получить этакое место и мечтал, чтобы его вызвали. Многие полагали, что их незаслуженно обходят, другие норовили заискивать перед управляющим и его помощником и льститься к ним, чтобы получить желанное место. Точь-в-точь свора дрессированных собак, прыгающих за сарделькой, которую всякий раз дергают вверх, там тоже каждый думает, что остальные не вправе прыгать за сарделькой, хотя не может объяснить почему. Так и здесь один щерил зубы на другого из-за ухваченного преимущества, прямо как в большом мире коммерсантов, ученых, артистов и дипломатов, отличие лишь в том, что там все происходит хитрее, спесивее и цивилизованнее.
Симон тоже несколько раз работал в городе (так коротко говорили в канцелярии), однако ему не везло. Один раз принципал, ловкий и весьма беспардонный агент по недвижимости и адвокат, считавший себя чуть ли не богом, выгнал его за то, что он читал газету, а не работал пером, а в другой раз он сам швырнул перо в физиономию шефу, оптовику, торговавшему овощами и фруктами, и сказал: «Пишите сами!» Жена оптовика норовила давать Симону всяческие инструкции, и тогда он попросту ушел, поскольку ему казалось, что эта особа норовит лишь обидеть его и унизить, а он вовсе не обязан это терпеть, во всяком случае, так он полагал.
Глава семнадцатая
Так минуло несколько недель чудесного лета. Никогда прежде Симон не воспринимал лето до такой степени как чудо, ведь в этом году он массу времени проводил на улице в поисках работы. Ничего не получалось, при всем старании, но, по крайней мере, погода стояла дивная. Вечером, шагая по современным улицам, полным шелеста листвы, игры теней, переливов огней, он то и дело бесцеремонно и безрассудно заговаривал с людьми, просто чтобы узнать, каково это будет. Однако люди только молча с изумлением смотрели на него. Почему они не вступали с праздным молодым человеком в разговор, не предлагали ему тихим голосом присоединиться к ним, войти в уединенный дом и заняться там чем-нибудь, чем занимаются только люди праздные, не имеющие, как и он, в жизни иной цели, кроме как дожидаться, чтобы день прошел и настал вечер, уповая вечером на какие-то чудесные свершения? «Я готов к любому деянию, лишь бы оно было дерзновенным, требующим бесстрашия», – говорил он себе. Часами он сидел где-нибудь на скамейке, слушал музыку, долетающую из сада фешенебельной гостиницы, и ему чудилось, будто сама ночь преображается в эти тихие звуки. Ночные девицы проходили мимо одинокого молодого человека, но им достаточно было чуть приглядеться, чтобы вмиг смекнуть, как у него обстоит с деньгами. «Будь у меня хоть один-единственный знакомый, у которого можно бы призанять деньжат, – думал он. – Брат Клаус? Стыдно – деньги-то получу, а заодно еще и тихий, печальный укор. У иных людей просить никак нельзя, оттого что они слишком прекраснодушны. Вот если б я знал такого, чье уважение мне не так уж и важно. Увы, я таких не знаю. Мне одинаково важно уважение всех и каждого. Придется ждать. Собственно, летом нужно немного, но ведь придет зима! Зимы я побаиваюсь. Вне всякого сомнения, зимой мне придется плохо. Что ж, буду бегать по снегу, правда босиком. Подумаешь! Буду бегать, пока ногам не станет жарко. Летом хорошо отдыхать, лежать под деревьями на скамейке. Все лето похоже на душистую, натопленную горницу. А зима – как распахнутое окно, ветер, буря врываются внутрь, заставляют двигаться. Тут я забуду о лентяйстве. Так мне и надо, что бы ни случилось! Лето кажется мне таким долгим. Минуло всего-то несколько недель, а мне кажется – так долго. Время вроде как спит и потягивается во сне, вот и думаешь, как бы перебиться целый день на сущие гроши. Да, по-моему, время летом спит и видит сны. Листья на высоких деревьях становятся все больше, ночью они шепчутся, а днем спят под жарким солнцем. Я, к примеру, что я-то делаю? Лежу целыми днями, когда нет работы, в комнате за закрытыми ставнями на кровати и читаю при свече. Свечи так восхитительно пахнут, а когда их задуваешь, по темной комнате тянется тонкий, влажный дымок, и на душе тогда спокойно-спокойно и ново, будто ты воскрес из мертвых. Как я сумею уплатить за комнату? Завтра срок. Ночи летом такие долгие, оттого что весь день прогуливаешь и просыпаешь, а едва настанет ночь, выныриваешь из этого сумбура и начинаешь жить. Сейчас я бы посчитал грехом, коли проспал бы хоть одну-единственную летнюю ночь. Вдобавок слишком душно, чтобы спать. Летом руки влажные и бледные, они словно чувствуют ценность духмяного мира, зимой же они красные и распухшие, точно от злости на холод. Да, так оно и есть. Зима заставляет топать от злости, а летом злиться не на что, разве только на то, что не можешь заплатить за комнату. Но прекрасное лето тут ни при чем. Я тоже больше не злюсь, думаю, потерял способность негодовать. Сейчас ночь, а гнев – он яркий как день, багровый, огненный, ничто с ним не сравнится. Ладно, завтра поговорю с квартирной хозяйкой.