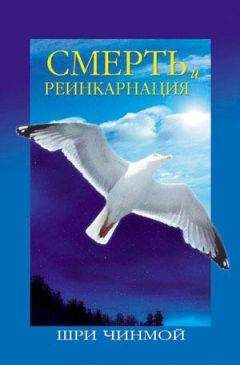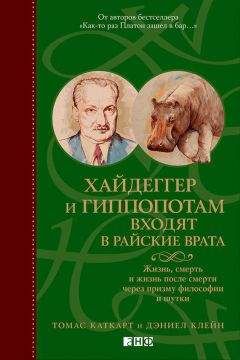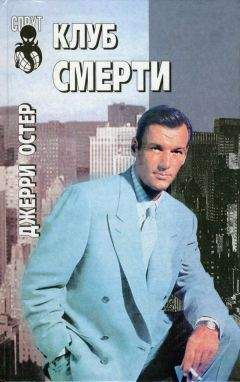Измышление одиночества - Остер Пол
Грешники эти, язычники – и даже скот, им принадлежащий, – такие же твари Божьи, что и евреи. Это поразительное и оригинальное наблюдение, особенно учитывая датировку написания истории – VIII век до н. э. (во времена Гераклита). Но такова в итоге вся суть того, чему раввинам нужно учить. Если вообще должна существовать справедливость, то – для всех. Никого нельзя исключать, иначе справедливости попросту не будет. Вывод неизбежен. Эта крохотная книга, рассказывающая нелепую и даже комическую историю Ионы, в литургии занимает центральное место: каждый год ее читают в синагоге на Йом Киппур, День искупления – самый торжественный праздник еврейского календаря. Ибо всё, как уже отмечалось, взаимосвязано со всем остальным. А если есть всё, то, значит, есть и все. О. не забывает последние слова Ионы: «Очень огорчился, даже до смерти». И все же он понимает, что пишет эти слова на странице, лежащей перед ним. Если есть всё, то, значит, есть и все.
Слова созвучны, и даже если меж ними нет всамделишней связи, он не может не думать о них вместе. Покои и упокой, гроб и утроба, каморка и мор. Вздох и сдох. Или что буквы в слове «лоза» можно переставить, и получится «зола». Он знает, что это всего-навсего школярская игра. Однако удивительно: пишет слово «школяр» – и вспоминает себя восьми– или девятилетним и то внезапное ощущение силы внутри, когда он осознал, что может так вот играть со словами: он как будто обнаружил тайную тропу к истине – абсолютной, универсальной и неколебимой истине, на которой зиждется весь мир. В своем школярском восторге, конечно, он не удосуживался учесть существование других языков, не только английского, – того великого Вавилона языков, что жужжат и сталкиваются в мире за пределами его школьной жизни. А как абсолютная и неколебимая истина способна меняться от одного языка к другому?
И все равно нельзя отрицать силу словесных созвучий и рифм, преобразований слова. Остается это ощущение волшебства, даже если его никак не связать с поиском истины, и та же магия, те же соответствия слов присутствуют в любом языке, хотя частные их сочетания могут различаться. В сердцевине каждого языка – сеть рифм, ассонансов и пересекающихся значений, и каждый такой случай – некий мостик, соединяющий друг с другом противоположные и противоречащие аспекты мира. Язык, стало быть, – не просто список отдельных вещей, которые нужно сложить друг с другом – и выйдет общая сумма, равная миру. Скорее язык таков, каким он разложен в словаре: бесконечно сложный организм, все элементы которого – клетки и жилы, тельца и кости, пальцы и жидкости – представлены в мире одновременно, и никакой не может существовать сам по себе. Ибо каждое слово определяется другими словами, а это значит, что вступить в одну часть языка – это вступить в него целиком. Язык, следовательно, – как монадология, если заимствовать понятие, предложенное Лейбницем. («Ибо так как все наполнено (что делает всю материю связною) и в наполненном пространстве всякое движение производит некоторое действие на удаленные тела по мере их отдаления, так что каждое тело не только подвергается влиянию тех тел, которые с ним соприкасаются, и чувствует некоторым образом все то, что с последними происходит, но через посредство их испытывает влияние и тех тел, которые соприкасаются с первыми, касающимися его непосредственно, то отсюда следует, что подобное сообщение происходит на каком угодно расстоянии. И следовательно, всякое тело чувствует все, что совершается в универсуме, так что тот, кто видит, мог бы в каждом теле прочесть, что совершается повсюду, и даже то, что совершилось или еще совершится, замечая в настоящем то, что удалено по времени и месту… Но душа может в себе самой читать лишь то, что в ней представлено отчетливо; она не может с одного раза раскрыть в себе все свои тайны, ибо они идут в бесконечность» [136].)
Игры со словами, как это делал О. школьником, стало быть, не столько поиск истины, сколько поиск мира в том виде, в каком тот предстает в языке. Язык – не истина. Это способ нашего существования в мире. Играть словами – просто исследовать, как работает ум, отражать частицу мира такой, какой ум ее воспринимает. Точно так же мир – не просто сумма предметов, которые в нем есть. Это бесконечно сложная сеть взаимосвязей между ними. Как и со значениями слов, предметы обретают значения только в отношениях друг с другом. «Два очень похожих друг на друга человеческих лица, – пишет Паскаль, – ничуть не смешных порознь, кажутся смешными, когда они рядом» [137]. Лица рифмуются на вид, как два слова могут рифмоваться на слух. Чтобы продвинуть это суждение еще на шаг, О. утверждал бы, что и событиям в чьей-либо жизни возможно рифмоваться между собой. Молодой человек снимает каморку в Париже, а потом обнаруживает, что в этой же комнатке в войну скрывался его отец. Если два эти события рассматривать порознь, ни о том, ни о другом особо нечего будет сказать. А вот рифма, которую они создают, если смотреть на них вместе, меняет реальность и того и другого. Как и два физических предмета, если поднести их друг к другу, возбуждают электромагнитные силы, которые не только воздействуют на молекулярную структуру каждого, но и на пространство между ними, изменяя, так сказать, саму свою среду, так два (или больше) рифмующихся события устанавливают в мире связь, добавляющую еще один синапс, который можно проложить сквозь огромную наполненность опыта.
Эти связи – общее место в произведениях литературы (возвращаясь к тому доводу), но в мире человек их скорее не замечает – ибо мир слишком велик, а жизнь человеческая слишком мала. Лишь в те редкие мгновения, когда случается подметить рифму в мире, ум может выпрыгнуть из себя и послужить мостиком через время и пространство, через ви́дение и память. Но тут не только рифма. В грамматику бытия включены все фигуры самого языка: сравнение, метафора, метонимия, синекдоха, – поэтому всякая вещь, встречаемая в мире, на самом деле – множество вещей, которые, в свою очередь, уступают место множеству других вещей, в зависимости от того, рядом с чем располагаются, в чем содержатся или от чего удалены. Зачастую к тому же отсутствует второй член сравнения. Он может оказаться забыт или захоронен в бессознательном или иным образом недоступен. «Так же точно дело обстоит с нашим прошлым, – пишет Пруст в важном пассаже своего романа. – Потерянный труд пытаться вызвать его, все усилия нашего рассудка оказываются бесплодными. Оно схоронено за пределами его ведения, в области, недостижимой для него, в каком-нибудь материальном предмете (в ощущении, которое вызвал бы у нас этот материальный предмет), где мы никак не предполагали его найти. От случая зависит, встретим ли мы этот предмет перед смертью или же его не встретим» [138]. Так или иначе, но все переживали подобное ощущение забывчивости, эту озадачивающую силу пропавшего члена сравнения. Вошел я в ту комнату, говорит, бывало, кто-нибудь, и меня охватило очень странное ощущение – как будто я в ней уже был, хотя совершенно этого не помню. Как в экспериментах Павлова над собаками (которые на простейшем уровне демонстрируют, как ум может связать две не связанные между собою вещи, со временем забыть первую и тем самым превратить одно в совершенно другое), что-то произошло, хотя мы толком не можем сказать, что именно. О., быть может, тщится выразить вот что: уже некоторое время для него ни один член сравнения не потерян. На чем бы, похоже, ни остановился его взгляд или разум, он обнаруживает там еще одну связь, еще один мостик, что способен перенести его в еще одно место, и даже в уединении его комнаты мир наскакивает на него с головокружительной скоростью, словно решил вокруг него вдруг сгуститься и произойти с ним весь и сразу. Совпадение: с чем-то сойтись; занять одно место во времени или пространстве. Ум, следовательно, есть то, что содержит не только себя. Как во фразе из Августина: «Где же находится то свое, чего он не вмещает?»