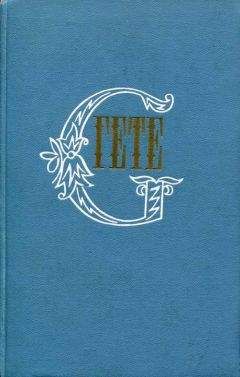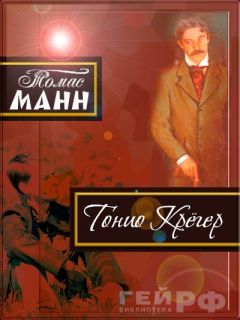Лотта в Веймаре - Манн Томас
Думается, она тем более убеждала себя в этом, чем менее правдоподобной казалась ей возможность полюбить тот образ, в который для нее облекся рок. О любви она знала только, что это самовластная, капризная и неучтимая сила, частенько подсмеивающаяся над благоразумием и утверждающая свои права независимо от велений разума. Избранник рисовался ей совсем другим: больше по ее подобию, с душой менее сумрачной, веселее, легче, жизнерадостнее, чем Август. То, что он так мало походил на мерещившийся ей образ, служило Оттилии романтическим доказательством подлинности ее чувства.
Август был не очень привлекательным ребенком, не слишком многообещающим отроком. Ему не прочили долгой жизни, что же касается его духовных задатков, то среди друзей дома утвердилось мнение, что чересчур больших надежд возлагать на него не приходится. В ту пору он из болезненного мальчика развился в широкоплечего, осанистого юношу тяжеловатой и мрачной наружности, я бы даже сказала, несколько бесцветной, имея в виду прежде всего его глаза, красивые или, вернее, могущие быть красивыми, если бы они обладали большей выразительностью и собственным «взором». Я говорю об Августе в прошедшем времени, чтобы судить беспристрастно. Но все сказанное относится и к двадцатисемилетнему молодому человеку, которым он был ко времени своего первого знакомства с Оттилией. Приятным, любезным собеседником я бы его не назвала. Его дух казался стесненным угрюмостью, какой-то боязнью прорваться наружу, меланхолией, которую было бы правильнее определить как безнадежность, опустошающую все вокруг него. Мне было очевидно, что этот невеселый нрав, эта тупая самоотреченность порождались боязнью убийственного сравнения с отцом.
Сын титана – высокое счастье, бесценное отличие, но и тяжкое бремя, постоянное самоунижение и развенчанье собственного «я». Отец некогда подарил мальчику альбом, который впоследствии, здесь в Веймаре и в местах, куда он ездил вместе с сыном, – в Галле, в Иене, в Гельмштадте, Пирмонте и Карлсбаде – заполнился автографами всех знаменитостей Германии и даже чужеземцев. Среди этих посвящений вряд ли хоть одно не отмечало достоинство молодого человека, наименее личное, но для всех ставшее настоящей idee fixe [27] – то, что он сын своего отца. Как должно было возвысить, но и запугать юную душу, когда философ, профессор Фихте, начертал: «Нация много ждет от вас, единственного сына, единственного, которым гордится эпоха». Но каково же должно было быть воздействие краткой сентенции, вписанной в этот альбом одним французским дипломатом: «Сыновья великих редко значат что-либо для грядущих времен». Следовало ли понимать эти слова как призыв составить исключение? Допустим! Но естественнее было все же прочитать их в духе Дантовой надписи на вратах ада.
Не допустить до убийственного сравнения – вот чего с угрюмым упорством добивался Август. Он рьяно, даже грубо отталкивал от себя поэтическое честолюбие, чуть ли не гневно отрекался от всех связей с миром высокого духа, стремясь слыть чисто практическим человеком, заурядным чиновником и придворным. Вы согласитесь, что есть подкупающая, достойная уважения гордость в таком решительном и безусловном отказе от посягательств на высшее, ростки которого, даже если они и были в нем, ему приходилось постоянно в себе подавлять и скрывать, чтобы избегнуть рокового сравнения. Но его неуверенность в себе, его угрюмая мизантропия, его недоверчивость и раздражительность отнюдь не подкупали и едва ли позволяли назвать его гордым. Скажем прямо: гордым он не был, он страдал от сломленной гордости. Своего общественного положения он достиг с помощью всех привилегий, которые ему давало его имя, – не только давало, но и навязывало. Он воспользовался ими, хотя ничуть им не радовался, и ощущал всю их оскорбительность для своего мужского достоинства. Науками ему не слишком докучали, и образование он получил довольно поверхностное. Должности, им занимаемые, ему доставались прежде, чем он мог бы проявить свои знания и способности. Он отлично сознавал, что получает их не в силу своей даровитости, но в силу своего положения фаворита. Другой бы испытывал самодовольную радость от легкости такого взлета, он же был создан, чтобы страдать от него. Это достойно уважения, но от преимуществ, дарованных ему судьбой, он ведь все же не отказывался.
Надо, однако, вспомнить и о другом, а именно, что Август был сыном не только своего отца, но и своей матери, сыном мамзели, и это не могло не внести своего рода разлад как в его отношение к миру, так и в его чувство собственного достоинства, разлад, обусловленный двоякой незаурядностью происхождения – его высотой и фривольной гибридностью. То, что герцог по просьбе его отца, своего друга, оказал милость одиннадцатилетнему мальчику и особым указом признал законность его рождения, а тем самым его права на дворянство, не меняло дела, так же как и то, что шестью годами позже состоялось венчание его родителей. «Дитя любви» – это засело во все головы так же прочно, как «сын титана». Все еще помнят, как скандализовано было наше общество, когда он, прелестный отрок, наряженный амуром, поднес на маскараде цветы и оду герцогине, по случаю дня ее рождения. Поднялся громкий ропот: не годится, чтобы дитя любви, да еще в образе амура, появлялось среди добропорядочных людей.
Дошли ли до него эти разговоры? Не знаю. Но с подобной неприязнью ему неоднократно приходилось сталкиваться в жизни. Его общественное положение, защищенное славой отца и милостью герцога к своему другу, все же оставалось двусмысленным. Друзья, или те, кого зовут этим именем, у него имелись – по гимназии, по службе. Но друга не было. Для дружбы он был слишком недоверчив, слишком замкнут и проникнут сознанием своего особого положения, в высоком и в сомнительном значении этих слов. Общество, его окружавшее, всегда было смешанным: то, в котором вращалась мать, отдавало богемой – много актерской братии, много любителей выпить. И сам он неправдоподобно рано возымел склонность к Бахусовым дарам. Наша милая баронесса фон Штейн рассказывала мне, что одиннадцатилетним мальчиком в разудалой компании матери он выпивал по семнадцати бокалов шампанского и что ей стоило немало труда, в своем доме, удерживать его от вина. Как ни странно это звучит по отношению к ребенку, добавила она, он, казалось, стремился запить свое горе. Горе, вполне обоснованное, ибо однажды он испытал жестокий удар, увидав, что отец плачет, глядя на него. Это было во время тяжкой болезни учителя в тысяча восьмисотом году, грудной жабы, чуть было не приведшей его на край могилы. Трудно выздоравливая, он часто плакал от слабости, но чаще всего при виде мальчика; с той поры ребенок и стал выпивать по семнадцати бокалов. Отца это не особенно удивляло, сам он искони с благосклонным веселием вкушал сей божий дар и отнюдь не отвращал от него сына. Мы, посторонние, не можем не приписать многие неприятные черты в характере Августа – его вспыльчивость, угрюмость, дикие и грубые выходки – ранней и, к сожалению, все растущей приверженности к вину.
Итак, прелестная Оттилия решила, что в этом молодом человеке, несшем к ее стопам свое не слишком располагающее, не слишком привлекательное поклонение, воплощена ее судьба. Ей казалось, несмотря на всю неправдоподобность, – или, вернее, как я уже говорила, в силу этой неправдоподобности, – что она отвечает на его любовь. Ее благородство, ее поэтическое понимание трагического неблагополучия его жизни помогли ей утвердиться в этой вере. Она вообразила себя победительницей демона, сидевшего в нем, добрым ангелом. Я уже говорила, что она умела извлечь прелесть из своего двойственного существования – веймарской светской барышни и тайной прусской патриотки. Любовь к Августу дала ей познать эту прелесть в новой, усугубленной форме, противоречие между ее убеждениями и убеждениями дома, к которому принадлежал ее обожатель, предельно обостряло парадоксальность ее страсти и тем более заставляло ее считать это чувство подлинной любовью.