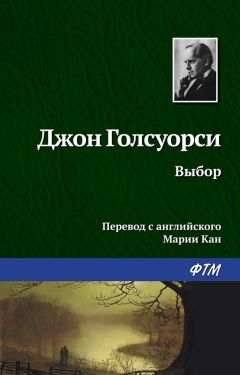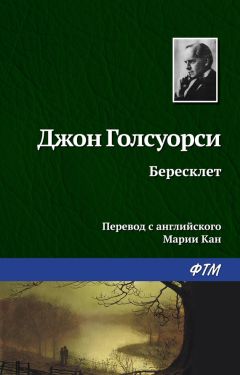Остров фарисеев. Путь святого. (сборник) - Голсуорси Джон
Антония сидела за роялем; голова ее слегка покачивалась в такт движению пальцев, а изящные ступни мерно двигались, нажимая на педали. Она, как видно, только что играла в теннис: на стуле валялись небрежно брошенные ракетка и берет. На ней была синяя юбка и кремовая блузка без воротника. Лицо ее раскраснелось, брови были чуть нахмурены; пальцы быстро бегали по клавишам, и она наклонялась то в одну, то в другую сторону, отчего шелк рукавов то натягивался, то повисал свободными складками.
Шелтон стоял и смотрел, не отрывая глаз, на ее губы, беззвучно отсчитывающие такт, на пышный ореол светлых волос, на темные брови, сбегающие к переносице, на нежные щеки с еле заметной синевой под глазами, голубыми и прозрачными, как лед, на чуть заостренный подбородок без ямочки – на это далекое и такое милое, чуть тронутое загаром и холодно-безмятежное лицо.
Антония повернула голову и, вскочив со стула, воскликнула:
– Дик! Вот хорошо!
Она протянула ему обе руки, но ее улыбающееся лицо яснее слов говорило: «Только не надо сентиментальностей!»
– Разве вы не рады мне? – пробормотал Шелтон.
– Не рада вам? Ну и смешной же вы, Дик! Как будто вы сами не знаете… О, да вы сбрили бороду!.. Мама с Сибиллой пошли в деревню навестить старенькую миссис Хопкинс… Пойдемте в сад. Тея и мальчики играют в теннис… Как замечательно, что вы приехали!
Антония схватила берет. Почти одного роста с Шелтоном, девушка сейчас казалась еще выше, когда, подняв руки, прикалывала берет к прическе, широкие рукава ее блузки трепетали, словно крылья, от движения пальцев.
– Мы, пожалуй, еще успеем сыграть партию до завтрака. Вы можете взять мою вторую ракетку.
– У меня ничего нет с собой, – растерянно сказал Шелтон. – Мне не во что переодеться.
Она спокойно оглядела его с головы до ног.
– Можете взять что-нибудь у Бернарда, у него масса всяких вещей. Я вас подожду.
Она взмахнула ракеткой, посмотрела на Шелтона и, крикнув: «Только быстро!» – исчезла.
Шелтон взбежал наверх и стал переодеваться, чувствуя себя неловко, как всякий человек, натягивающий чужое платье. Когда он спустился, Антония стояла в холле, напевая песенку и постукивая ракеткой по туфле, и широко улыбалась, показывая белые, как жемчуг, зубы. Взяв ее за рукав, он прошептал:
– Антония!
Яркий румянец залил ее щеки; она повернула голову и посмотрела через плечо.
– Пошли, Дик! – крикнула она и, распахнув стеклянную дверь, выбежала в сад.
Шелтон последовал за ней.
Высокая сетка отделяла теннисную площадку от выгона. В одном углу ее возвышался каменный дуб, его густая листва выделялась ярким мазком на светлом фоне окружающей зелени. Увидев Шелтона и Антонию, Бернард Деннант прекратил игру и сердечно пожал руку гостя. Тея, в короткой юбке, стоявшая на дальнем конце площадки, откинула с лица прямые светлые волосы и, закрываясь рукой от солнца, неторопливо подошла к ним. Судья, мальчуган лет двенадцати, лежал на животе и, визжа, играл с шотландской овчаркой. Шелтон нагнулся и дернул его за волосы:
– Здравствуй, Тоддлс! Ах ты, шалопай этакий!
Они стояли вокруг Шелтона, и в глазах их было откровенное, безжалостное любопытство, а в манере держать голову что-то обидно-недоверчивое – словно от Шелтона исходил некий едва уловимый острый запах, возбуждающий интерес и порицание.
Когда партия кончилась и девушки сели отдыхать в двойной гамак, висевший под каменным дубом, Шелтон отправился с Бернардом на выгон разыскивать затерявшиеся в траве мячи.
– Знаешь, старина, – заметил его бывший однокашник, сухо улыбаясь, – мамаша собирается задать тебе хороший нагоняй.
– Нагоняй? – удивился Шелтон.
– Я не знаю толком, в чем дело, но по некоторым ее замечаниям понял, что ты писал Антонии какие-то странные вещи.
И, снова сухо улыбнувшись, он посмотрел на Шелтона.
– Странные вещи? – с раздражением переспросил тот. – Что ты хочешь этим сказать?
– Ну, не знаю! Мамаша считает, что Антония… мм… встревожена и сбита с толку или что-то в этом роде. Ты писал ей, что многое в жизни обстоит далеко не так, как это кажется на первый взгляд. А такие вещи писать не полагается.
И, продолжая улыбаться, он покачал головой.
Шелтон опустил глаза.
– Но ведь это правда! – сказал он.
– Очень возможно. Только держи свою философию при себе, старина.
– Философию? – повторил удивленный Шелтон.
– Оставь нам парочку наших священных предрассудков.
– Священных? Да в жизни ничего нет священного, кроме… – начал было Шелтон и тут же перебил себя: – Ничего не понимаю!
– Кроме идеалов и тому подобного! Ты что-то перешел границу «практической политики» – в этом, очевидно, все и дело, мой мальчик. – Бернард вдруг нагнулся и, подняв последний мяч, сказал: – А вот и мамаша!
И Шелтон увидел миссис Деннант, которая шла по лужайке со своей второй дочерью, Сибиллой.
Когда молодые люди подошли к каменному дубу, три девушки, взявшись под руки, уже направились к дому, а миссис Деннант, в сером платье, стояла одна и разговаривала с младшим садовником. В руках, защищенных коричневыми перчатками, она держала корзинку, которая отгораживала от бородатого садовника бесчисленные строгие складки ее темной «рабочей» юбки. Рядом сидела шотландская овчарка и, насторожив уши, смотрела на их лица, словно пыталась понять, чем же отличаются друг от друга эти двуногие.
– Благодарю вас, вы больше не нужны мне, Баньян. А, Дик! Наконец-то! Как приятно видеть вас!
При каждой встрече с миссис Деннант Шелтон думал: до чего же она типична. Ему всегда казалось, что он встречал очень много женщин, подобных ей. Он сознавал, что в ее несомненно высоких качествах нет ничего индивидуального, что они скорее присущи всему ее классу. Миссис Деннант, хоть и отличалась сильным характером, считала, что проявлять своеобразие своей натуры не принято. Она была высокая, худая, но отнюдь не тощая, с чуть горбатым носом, длинным выдающимся подбородком и волевым, но добрым ртом, обнажавшим в улыбке, пожалуй, слишком много зубов. Ее манера говорить указывала на родовитость: она растягивала слова, пренебрегая таким вульгарным свойством речи, как музыкальность, и делая неожиданные ударения, – то есть говорила, следуя той особой манере, которая присуща аристократам и составляет дополнительную усладу их жизни.
Шелтон знал, что миссис Деннант многим интересуется; целый день она чем-то занята: с семи утра, когда горничная приносит ей маленький чайник с чаем, кусочек бисквита и любимую собачку Топса, до одиннадцати вечера, когда, держа в одной руке серебряный подсвечник с зажженной свечой, а в другой – какой-нибудь новый роман или, еще лучше, прелестный томик мемуаров, какие великие люди пишут о людях еще более великих, она прощается с детьми и гостями, отправляясь на покой. Да и разве может быть иначе, если нужно заниматься фотографией и садоводством, председательствовать в местном благотворительном обществе, наносить визиты богачам, печься обо всех бедняках, читать все новые книги и содержать свои мысли и мнения в таком порядке, чтобы ничто чуждое не могло ненароком затесаться между ними, – конечно, она всегда была чем-то занята. Сведения, которые она черпала из всех этих источников, были обширны и разнообразны, но миссис Деннант никогда не допускала, чтобы они оказывали какое-либо влияние на ее взгляды, а во взглядах этих не чувствовалось ни аромата, ни остроты, и брала она их с того же блюда, что и все остальные представители ее класса.
Шелтону нравилась миссис Деннант. Она не могла не нравиться. Она была добрая и такая хорошая; что-то в ней напоминало дорогой, и притом вполне пригодный для обихода, фарфор; к тому же она не душилась, словно в знак протеста против всяческой мишуры, ни вербеной, ни фиалками, никакими из тех духов, что любят женщины, – от нее вообще ничем не пахло. Когда ей приходилось иметь дело с людьми не «ее круга» (она исключала из их числа викария, хотя отец его и торговал галантереей), все ее существо, несмотря на ее утонченность, казалось, шептало мягко и деликатно, но вполне рассудительно: «Я – это я, а вы – это вы, не так ли?» Она не то чтобы сознательно выделяла себя из числа простых смертных – нет: она в самом деле была незаурядной женщиной. Она держалась так потому, что не могла держаться иначе: ведь так испокон веков вели себя все люди ее круга. Они впитали это с дыханием нянек, склонявшихся над их колыбелью, и настолько отравили свой организм, что впоследствии уже не способны были наполнять легкие хорошим, свежим воздухом. А манеры миссис Деннант! Ах, эти манеры! Они так тщательно скрывали ее истинную сущность, что приходилось сомневаться в наличии таковой.