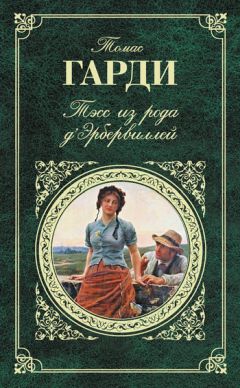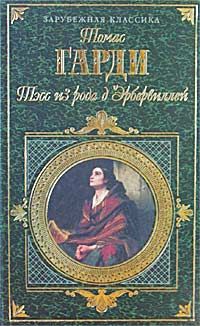Тэсс из рода д'Эрбервиллей - Харди Томас
Они видели пласты легкого летнего тумана над лугами — пушистые, ровные и тонкие, как покрывало. На траве, седой от росы, виднелись островки там, где ночью лежал скот, — темно-зеленые сухие островки величиной с коровью тушу, разбросанные в океане росы. От каждого островка вилась темная тропинка, проложенная коровой, которая, покинув место ночлега, ушла пастись, — и они находили ее в конце этой тропинки. Узнав их, корова фыркала, и у ее ноздрей клубилось в тумане облачко пара. Тогда гнали они коров на мызу, а иногда доили их тут же.
Случалось, что летний туман сгущался, и луга походили на белое море, над которым, словно грозные скалы, поднимались отдельные деревья. Птицы взмывали над ним, вырываясь к свету, и парили в воздухе, греясь на солнце, либо садились на мокрые, сверкавшие; как стеклянные прутья, перекладины изгороди, пересекавшей луг. Туман оседал крохотными алмазами на ресницах Тэсс и мелким жемчугом осыпал ее волосы. Когда разгорался день, солнечный и банальный, роса испарялась, Тэсс теряла свою странную, эфирную прелесть, ее зубы и глаза блестели в лучах солнца, и снова она была лишь ослепительно красивой доильщицей, у которой могли найтись соперницы среди других женщин.
В это время раздавался голос фермера Крика, который распекал за поздний приход работниц, живших не на мызе, и бранил старую Дебору Файэндер за то, что та не моет рук.
— Ради бога, Деб, подставь руки под насос. Ей-богу, если бы лондонцы знали, какая ты грязнуха, они бы покупали масла и молока еще меньше, чем теперь, а это не так-то просто.
Кончали доить коров, и тут Тэсс, Клэр и все остальные слышали, как миссис Крик отодвигает в кухне тяжелый стол от стены; — эта процедура неизменно предшествовала каждой трапезе; после завтрака раздавался снова тот же отчаянный скрип, когда стол водворяли на прежнее место.
21
Однажды после завтрака в молочной поднялась суматоха. Маслобойка вращалась, как всегда, но масло не сбивалось. Всякий раз, как это случалось, обычная жизнь останавливалась. «Плюх-плюх» — плескалось молоко в огромном цилиндре, но того звука, которого ждали все, не было слышно.
Фермер Крик и его жена, доильщицы Тэсс, Мэриэн, Рэтти Придл, Изз Хюэт и приходящие замужние работницы, а также мистер Клэр, Джонатэн, Кейл, старая Дебора и все остальные стояли, беспомощно созерцая маслобойку, а мальчишка, погонявший во дворе лошадь, таращил глаза, показывая, что оценивает создавшееся положение. Даже меланхолическая лошадь, завершая круг, казалось, посматривала на окно вопросительно и грустно.
— Много лет не бывал я у сына знахаря Трэндла в Эгдоне, много лет, — с горечью сказал Крик. — Далеко ему до отца! И раз пятьдесят я говорил, что в него не верю. Да, не верю. А все-таки придется пойти к нему. Да, придется пойти, если дело не наладится.
Даже мистер Клэр приуныл, видя отчаяние хозяина.
— Когда я еще был мальчишкой, — сказал Джонатэн Кейл, — знахарь Фолл — тот, что живет по ту сторону Кэстербриджа, — слыл мастером. Ну, да теперь он рассыпается, как гнилое дерево.
— Мой дед ходил, бывало, к знахарю Минтерну в Олскомб, умный был человек, как говаривал дед, — продолжал мистер Крик. — Но нынче толковых людей не сыщешь.
Миссис Крик держалась ближе к делу.
— Уж не влюблен ли у нас тут кто-нибудь на мызе? — предположила она. — В молодости я слыхала, что масло от этого не сбивается. Помнишь, Крик, много лет назад служила у нас одна девушка… и масло-то ведь тогда не сбивалось…
— Да, да. Но это не так. Любовь тут была ни при чем. Помню прекрасно: маслобойка тогда испортилась.
Он повернулся к Клэру:
— Был у нас работник Джек Доллоп, сэр, разбитной парень; ухаживал за молодой девушкой из Мелстока и обманул ее, как обманывал многих. Ну, да на этот раз пришлось ему столкнуться с женщиной совсем другого сорта, правда, сама-то девушка была здесь ни при чем. В святой четверг собрались мы все здесь — вот так же, как и теперь, только масло в тот день не сбивали — и видим: подходит к дому мать этой девушки и держит в руке громадный зонт, оправленный медью, которым быка можно с ног свалить, — идет и спрашивает: «Здесь работает Джек Доллоп? Он мне нужен. Хочу с ним посчитаться». А следом за матерью идет девушка, обманутая Джеком, и плачет горькими слезами, уткнувшись в платок. Джек посмотрел в окно и говорит: «О господи! Вот беда! Она меня убьет! Куда бы мне спрятаться, да поскорее?.. Не говорите ей, где я!» И с этими словами залез в маслобойку и крышку прикрыл изнутри. А тут уж мать девушки ворвалась в молочную. «Негодяй! Где он? — кричит. — Я ему всю морду расцарапаю, дайте только мне до него добраться!» Искала она повсюду, ругала Джека и так и этак; тот лежит и чуть не задыхается в маслобойке, а бедная девушка, или — вернее будет сказать — молодая женщина, стоит у двери и плачет навзрыд. Никогда я этого не забуду, никогда! Камень и тот бы растаял. А она никак не может его отыскать.
Хозяин мызы умолк, и слушатели обменялись кое-какими замечаниями.
Рассказы мистера Крика отличались одним любопытным свойством: казалось бы, доведенные до конца, они побуждали слушателей встревать со своими замечаниями не вовремя, так как на самом деле до конца было еще далеко, но старые друзья не попадались на эту удочку.
Рассказчик продолжал:
— Понять не могу, как старуха догадалась, но в конце концов она пронюхала, что он сидит в маслобойке. Не говоря ни слова, она ухватилась за ручку — а маслобойку тогда крутили вручную — и давай крутить, а Джек болтается там, внутри. «О господи! Остановите маслобойку! — закричал он, высунув голову. — Выпустите! Всю душу из меня вытрясли!» Был он трусоват, как и полагается такому парню. «Э, нет, не выпущу, пока не вернешь ей честное имя!» — закричала старуха. «Останови маслобойку, старая ведьма!» — завизжал он. «Ах ты, обманщик! Называешь меня старой ведьмой, хотя вот уж пять месяцев, как следовало бы тебе величать меня тещей!» И пошла крутить, а у Джека кости трещат. Никто из нас не посмев вмещаться, и он наконец обещал загладить грех. «Да, говорит, слово свое я сдержу». Тем дело и кончилось.
Слушатели, посмеиваясь, обсуждали рассказ, как вдруг сзади послышался шорох; все оглянулись: Тэсс, побледнев, направилась к двери.
— Какая жара сегодня! — чуть слышно проговорила она.
Действительно, день был жаркий, и никому не пришло в голову, что бледность ее вызвана воспоминаниями хозяина. Он шагнул вперед, распахнул перед ней дверь и сказал с ласковой насмешкой:
— Что ж это ты, девчурка? Самая хорошенькая молочница на моей мызе и вдруг раскисла, чуть только настала жара. Как же мы без тебя обойдемся в середине лета? А, что скажете, мистер Клэр?
— Мне дурно… я… я лучше выйду на воздух, — пролепетала она и скрылась за дверью.
На ее счастье, в эту самую минуту плеск молока во вращающейся маслобойке сменился долгожданным чмоканьем.
— Пошло! — воскликнула миссис Крик, и на Тэсс перестали обращать внимание.
Бедная девушка вскоре взяла себя в руки, но весь день втайне грустила. После конца вечерней дойки ей не захотелось оставаться на людях, и, выйдя из дому, она побрела сама не зная куда. Она чувствовала себя несчастной, глубоко несчастной, сознавая, что для ее товарок повествование фермера было забавным рассказом, и только. Казалось, ни одна из них, кроме нее, не поняла трагического его смысла, и, несомненно, никто не подозревал, как больно задел ее этот рассказ. Заходящее солнце выглядело теперь безобразным, словно глубокая воспаленная рана на небе. В зарослях у реки только одинокая тростянка приветствовала ее надтреснутым печальным голосом, прозвучавшим, как голос утраченного друга.
В эти длинные июньские дни доильщицы, да и другие обитатели мызы, ложились спать на закате или еще раньше, так как вставать приходилось спозаранку и работа была тяжелая — в эту пору коровы давали полные ведра молока. Обычно Тэсс поднималась наверх вместе со своими товарками, но сегодня она первая ушла в их общую спальню и уже дремала, когда явились остальные. Она видела, как они раздевались в оранжевых лучах заката, окрасившего их фигуры в желтоватые тона, потом задремала снова, но ее разбудили их голоса, и она тихо повернулась к девушкам.