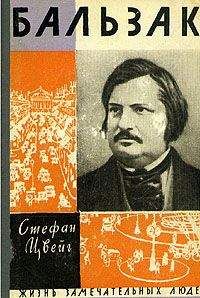Стефан Цвейг - Фантастическая ночь
Главная аллея была уже довольно пустынна, когда мы выехали на нее; скачки, должно быть, уже давно начались, потому что обычного потока пышных выездов не было видно, только единичные фиакры, под громкий стук копыт, мчались мимо нас, точно в погоне за невидимой целью. Кучер обернулся ко мне и спросил, не подогнать ли и ему коней, но я сказал, чтобы он не торопился, - мне было совершенно безразлично, опоздаю я или нет. Слишком часто бывал я на скачках и наблюдал публику на ипподроме, чтобы бояться опоздать, и в моем ленивом настроении мне больше нравилось мягко покачиваться в коляске, ощущать нежный шелест голубеющего воздуха, словно рокот моря на палубе корабля, и мирно созерцать каштаны в цвету, бросавшие вкрадчиво-теплому ветру свои лепестки, которые он, играя, подхватывал и, покружив немного, снежинками ронял на землю. Приятно было покачиваться, как в люльке, вдыхать весну с закрытыми глазами, чувствовать, что без малейших усилий с твоей стороны тебя уносит куда-то; в сущности я был недоволен, когда фиакр подъехал к воротам в Фройденау. Я охотно повернул бы обратно, чтобы еще насладиться ясным, теплым днем раннего лета. Но уже было поздно - фиакр остановился перед ипподромом.
Глухой гул несся мае навстречу. Словно море бушевало за ступенчатыми трибунами, где шумела, скрытая от моих глаз, возбужденная толпа, и мне невольно припомнилось, как в Остенде, когда узкими проулками идешь из города на пляж, тебя уже обдает резким соленым ветром и слышится глухой рев еще прежде, чем взору открывается пенистый серый простор, по которому ходят гремящие валы. Очередной заезд, видимо, начался, но между мною и кругом, по которому скакали теперь лошади, теснилась пестрая, гудящая, словно потрясаемая бурей, толпа игроков и зрителей; сам я не видел дорожки, но все перипетии скачки отражались на поведении окружающих, и я мог свободно следить за ней. Лошади, очевидно, давно были пущены и уже вытянулись в ряд, две-три вырвались вперед и боролись за лидирующее место, потому что из толпы, остро переживавшей незримое для меня состязание, уже неслись крики и ободряющие возгласы. Все взгляды были устремлены в одну точку, и я понял, что скачка достигла поворота; толпа словно обратилась в одну-единственную вытянутую шею, и тысячи отдельных звуков, вырываясь, казалось, из одной-единственной гортани, сливались в ревущий, клокочущий прибой. И этот прибой вздымался выше и выше, он уже заполнил все пространство, вплоть до безмятежного синего неба. Я вгляделся в несколько ближайших лиц. Они были искажены как бы внутренней судорогой, горящие глаза выпучены, губы прикушены, подбородок алчно выставлен вперед, ноздри раздуты, точно у лошади. И смешно и жутко было мне, трезвому, смотреть на этих не владеющих собой, пьяных от азарта людей. Рядом со мною стоял на стуле мужчина, щегольски одетый и, вероятно, приятной наружности; теперь же, одержимый незримым дьяволом, он неистовствовал, размахивал тростью, словно кого-то подхлестывая, и безотчетно подражал движениям жокея, подгоняющего скачущую лошадь, что для стороннего наблюдателя было невыразимо комично; точно упираясь в стремена, он непрестанно переступал с каблука на носок, правой рукой беспрерывно рассекал воздух, работая тростью, словно хлыстом, левой судорожно сжимал афишу. Таких белых афиш кругом мелькало множество. Как брызги пены взлетали они над этим яростно бурлящим человеческим морем. Теперь, по-видимому, несколько лошадей шли на кривой почти голова в голову, потому что сразу многоголосый рев раздробился на два, три, четыре имени, которые, как боевой клич, выкрикивали отдельные группы, и исступленные вопли служили, казалось, отдушинами для их горячечного бреда.
Я стоял среди этих бесноватых невозмутимый, как скала среди волн океана, и отчетливо помню, что испытывал в ту минуту. Меня смешили нелепые телодвижения, перекошенные лица, и я с презрительной иронией поглядывал на столь плебейскую несдержанность, но вместе с тем - и я лишь нехотя признавался себе в этом - я слегка завидовал такому возбуждению, такой одержимости, жизненной силе, таившейся в этом бешеном азарте. Что могло бы случиться, чтоб до такой степени взволновать меня, думал я, привести в такое исступление, чтобы я весь горел как в огне, а из горла против воли вырывались дикие крики? Я не представлял себе такой денежной суммы, которой бы я так пламенно жаждал обладать, или женщины, к которой я так страстно воспылал бы. Не было ничего, ничего, что могло бы разжечь меня! Перед дулом внезапно направленного на меня пистолета сердце мое, за миг до смерти, не колотилось бы так бешено, как колотились вокруг меня, из-за горсточки золота, сердца десятка тысяч людей.
Но, видимо, одна из лошадей уже подходила к финишу, потому что над толпой вдруг взвилось одно имя, повторяемое тысячью голосов, и этот слитный пронзительный крик становился все громче, пока сразу не оборвался - словно лопнула слишком сильно натянутая струна. Заиграл оркестр, толпа поредела. Заезд был окончен, исход борьбы решился, волнение улеглось, оставив после себя легкую зыбь. Толпа, только что являвшая собой единый плотно сбитый ком страстей, раскололась на множество гуляющих, смеющихся, беседующих людей. Из-за масок безумия снова показались спокойные лица; сплошная расплавленная масса, в которую на несколько мгновений превратил всех этих людей игорный азарт, уже опять начала расслаиваться; люди расходились или собирались группами соответственно своему общественному положению; были здесь знакомые между собой, которые обменивались поклонами, были и чужие, с холодной учтивостью посматривающие друг на друга. Женщины ревниво оглядывали наряды своих соперниц, мужчины бросали на них нежные взоры; то праздное любопытство, которое составляет по существу главное занятие светских людей, было пущено в ход; разыскивали друзей, приятелей, проверяли, все ли в сборе, кто как одет. Едва очнувшись от опьянения, все эти люди уже и сами не знали, зачем они пришли - ради скачек или ради перерывов между скачками.
Я лениво расхаживал в этой праздной толпе, раскланивался, отвечал на поклоны, с удовольствием вдыхал столь привычный запах духов и аромат изящества, которым веяло от этого пестрого людского калейдоскопа; но еще приятнее был легкий ветерок, долетавший с согретых летним солнцем лужаек и рощ, ласково игравший белой кисеей женских платьев. Несколько раз знакомые пытались заговорить со мною, Диана, известная своей красотой актриса, приветливо кивнула мне, приглашая в свою ложу, но я ни к кому не подходил. Мне не хотелось разговаривать с этими людьми, мне было скучно видеть в них, точно в зеркале, самого себя; только зрелище прельщало меня, только возбуждение, царившее в толпе (ибо чужое возбуждение для равнодушного человека самое увлекательное зрелище). Когда мне встречались красивые женщины, я дерзко, но очень хладнокровно смотрел на их бюст, полуприкрытый прозрачным газом, и про себя забавлялся их смущением, в котором было столько же стыдливости, сколько удовлетворенного тщеславия. Я не испытывал никакого волнения, мне просто нравилась эта игра, нравилось вызывать у них нескромные мысли, раздевать их взглядом и подмечать в их глазах ответный огонек; я, как всякий равнодушный человек, черпал подлинное наслаждение не в собственной страсти, а в смятении чувств, вызванном мною. Только теплое дуновение, которым обдает нашу чувственность присутствие женщины, любил я ощущать, а не подлинный жар; мне нужен был не пламень, а созерцание его. Так я прогуливался и сейчас, ловил женские взгляды, легко отражая их, словно мячики, ласкал, не прикасаясь, упивался, не ощущая, лишь слегка разгоряченный привычной игрой.
Но и это мне скоро наскучило. Все те же люди попадались навстречу, я знал уже наизусть их лица и движения. Поблизости оказался свободный стул. Я уселся. Вокруг меня опять началась сутолока, люди толпились, бежали, натыкались друг на друга; очевидно, предстоял новый заезд. Я не двинулся с места и, откинувшись на спинку, задумчиво следил за струйкой дыма, белыми завитками поднимавшейся к небу от моей папиросы и таявшей, как крохотное облачко в весенней лазури.
И тут началось то необычайное и неповторимое, что и теперь направляет мою жизнь. Я могу совершенно точно указать время, потому что случайно в ту минуту посмотрел на часы. Было три минуты четвертого, а день - 8 июня 1913 года. Итак, с папиросой в руке я смотрел на белый циферблат, совершенно уйдя в это ребячливое и бессмысленное созерцание, как вдруг услышал за спиной женский смех; женщина смеялась громко, тем возбужденным, резким смехом, который мне нравится у женщин, тем смехом, который внезапно вырывается у них в угаре любовной страсти. Я уже хотел было повернуть голову, чтобы взглянуть на женщину, так дерзко и вызывающе вторгшуюся в мои беспечные мечтания, словно ослепительно белый камень, брошенный в заросший тиной пруд, но удержался. Остановило меня нередко уже овладевавшее мною странное желание позабавиться безобидной игрой - проделать маленький психологический опыт. Мне захотелось дать волю своему воображению и, не глядя на нее, представить себе эту женщину - ее лицо, рот, шею, затылок, грудь, - словом, воплотить ее смех в живой, реальный, законченный образ.