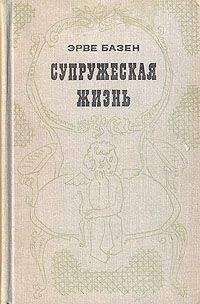Супружеская жизнь - Базен Эрве
— Ну что ты, в самом деле?
Ничто не остановит ее в этом священнодействии. Она так горда, что нет нужды в бутылочках с молоком, и перед всей семьей выставляет напоказ свою грудь, прежде считавшуюся предметом эстетических эмоций, эротических радостей, предназначенных для меня, а теперь это лишь бесстыдно функционирующая и объемистая молочная железа. Даже перед дядей Тио, более застенчивым, чем она сама, Мариэтт едва отвернется, чтоб распаковать и снова запаковать грудь. Прежде чем застегнуть пуговицу, она заботливо засунет в лифчик ватку и еще пояснит:
— Вот глупо, лучше было бы иметь кран. Каждый раз я вся мокрая…
По выходе из клиники ее первой заботой было сделать анализ молока. Изобилие ведь не всегда означает высокое качество. Но ее молочные достижения оказались на высоте: густота — 1,03; казеин — 4, жирность — 24, молочный сахар — 3,6, соли — 0,75… Чего же еще желать? Мариэтт показала всем листок, полученный из лаборатории, а потом присоединила его к справке о группе крови, постоянно лежащей у нее в сумочке. Но она не разобралась в довольно скромной шутке Тио:
— Из этакого молока превосходный бы вышел сыр, а?
Ей не хватает чувства юмора в таких вещах.
Впрочем, ей не хватает также, надо признаться, интереса и к другим вещам. Все проблемы, связанные с моей персоной, для нее начисто исчезли. Прежде Мариэтт охотно перелистывала материалы судебных дел, которые я вел; теперь она эти папки даже не приоткроет. Она перестала рыться в книжном шкафу. Я заметил, что были куплены три книги, но вот как они назывались: «Ваш ребенок, мадам», «Руководство для молодой матери» и «Тетрадь младенца» с вставленной в корешок спиралью и в обложке из пластика. «Тетрадь» предназначалась «для заметок о жизненных фактах, датах, болезнях и о развитии вашего херувима». Мариэтт немедленно начертала на страницах «Тетради» даты рождения Никола, день, когда проводилось исследование на реакцию Пирке, данные о росте и весе и другие медицинские подробности. На странице 12, содержащей тридцать незаполненных строк, жена несколько нарушила порядок, предложенный автором, который призывал матерей поделиться мыслями более высокого порядка. Этот господин предложил той, что склоняется над маленьким доверенным ей существом, попытаться выразить здесь, какие чувства вызывают в ней эти самые трогательные из всех человеческих обязанностей. Двадцать лет спустя вам будет приятно вновь прочесть то, что вы здесь записали. Одним росчерком пера Мариэтт перечеркнула всю страницу, потом она обернулась ко мне и сказала то, что, в сущности, явилось лучшим ответом:
— Перечитывать… Зачем? Такое не забывается.
Хорошо сказано. Хотя обычно она склонна к чувствительности и ее волнуют сентиментальные фразы. Она без возражений принимает самые избитые или елейные изречения и, пожалуй, готова была бы отнести на свой счет обращение: «Benedicta tu in mulieribus». [11] Теперь она еще больше, чем прежде, одержима правилами «гигиены новорожденных» и с удивительным прилежанием выполняет все предписания в этой области. Ну уж нет, она не станет пользоваться всякими стиральными порошками для пеленок! Да она ополоснет десять раз стиральную машину из боязни, вдруг там застряла какая-то крупинка порошка. Когда же пупочный шрам признали засохшим и когда Никола впервые смог погрузиться в мягкую резиновую ванночку (маленькое надувное чудо), вода была точно такой температуры, как указано, ни одним градусом выше. Не повезло в одном: на столе лежала английская булавка, и она проколола дырочку в каучуковой ванночке, вода постепенно вытекала, и малыш едва не оказался на мели.
Хотел бы я иметь шагомер, чтоб сосчитать, сколько же шагов делает Мариэтт, беспрерывно бегая к кроватке ребенка и обратно, сколько же километров проходит она в день? Даже ночью я чувствую, что она настороже; сдерживая дыхание, прислушивается к тишине, чтоб уловить еле слышное сопение этого крохотного носика, смазанного нежным детским кремом.
Речь идет о так называемом введении во храм после родов. Не мешало бы также завести речь о введении меня в прежние супружеские права. Об этом надо или молчать, или говорить со свирепой откровенностью и повторить остроту Курнонского, нашего национального гурмана, который, принимаясь за вторую порцию любимого блюда, говорил:
— Недурно, но вначале было гораздо лучше.
Кто из мужей не воскликнет: верните же мне то, что было вначале, то, что было гораздо лучше! Нет, не самый первый раз, нет, это была еще радость неразделенная. Но отдайте мне то, что было потом: свежесть, живость ощущений у нас обоих, еще не знавших, что мы утратили Чувство меры и что на скрипку не удается вновь натянуть те же струны. Ведь в нашей близости с Мариэтт я все еще ощущал ее девушкой, отдающейся юноше, идущей навстречу всем его желаниям, именно девушкой, хотя в свидетельстве о браке она была уже моей женой. Но вот как-то ночью мне показалось, что она повторяется, хотя она по-прежнему была мне приятна.
Не станем спорить: вслед за волшебным блаженством кривая наслаждений снижается до уровня радостей, а затем то подымается, то падает в зависимости от той или иной причины (что-нибудь необыкновенное, дерзкое, манящее). Иной раз какой-нибудь пустяк — красивая прическа, ночная сорочка — как-то обновляет то, что стало слишком узаконенным, и вот мой пыл возрождается. Просто теперь уже не всегда бываешь ненасытен.
Все становится менее ясным с началом беременности. Животное в этом случае угомонится, но мы, люди, гуманны. Процитируем на этот раз наших классиков: «Мадам, я продолжаю…» Нужно до конца проявлять деликатность, доказывая, что для любви не имеет значения утрата изящных форм. Есть у меня еще и другие причины, и я приведу их в надежде, что вы не рассердитесь. Здесь дело, в привычке — обладать тем, что имеешь. И в необходимости — ведь надо, чтоб это свершалось. Здесь и тщеславие — я не перестаю возделывать свое поле. Здесь и болезнь, охватившая обе стороны и обостряющая влечение. Наконец, и желание доказать, что еще не перестало существовать то девичье, что уходит, о чем напоминают еще эти набухшие груди, то, к чему в последний раз прикасаются ночь, простыня и муж.
Разумеется, под конец мы стали воздерживаться, чтобы сберечь ношу, которая уже стучалась у входа. Это неплохо. Для вас. Пожалуй, и для меня. Но я знаю мужей, которые в этих случаях теряют всякий стыд и готовы пойти к девкам. Я не хотел этого. Однако в таком безоблачно голубом городке всегда найдется благочестивая прихожанка или другая шустрая девица, которая охотно позаботится о страдающем супруге.
Теперь ты мне возвращена. Отчасти. Как мне нравилось прежде волновать тебя, затевая веселые схватки, разливая холодок по твоей коже легкими прикосновениями пальцев, когда наступает предел терпению. Мне нравилось, после того как оторвешься, снова прижаться, обнять тебя так, чтобы двинуться не могла, и ладонью почувствовать линии твоей груди. Но теперь все это отгорожено ватой и стало для меня запретной зоной; назначение этого места — обеспечить Никола завтраком в первое кормление. В моем владении только губы, и они все те же, все так же приоткрывают в улыбке сверкающий ряд зубов, а ниже весь рубенсовский ансамбль. И все же ты опять моя, такая же узкобедрая, близкая, жаждущая, и одна лишь перемена — этого прежде не было, — ты шепчешь мне:
— Осторожнее!
Да-да, конечно. Скоро ты снова займешься обычными своими подсчетами. Женщина, которую исследуют врачи, теряет стыдливость, внимательно следит за железами, становится более естественной и более ловкой. Я уже убедился в этом и заметил настойчивость, с которой Мариэтт добивается от меня желанного ей повторения.
То с одного конца течет, то с другого. Что за важность! В этом пухлом комочке все очаровательно: ни слюна, ни колики, ни злость, от которой заходятся в крике эти розовые поросята, — ничто не помешает нам любить их.
Когда я вижу на улице маленьких детей, их свеженькие мордочки, проборы от затылка до носика, блестящие туфельки, чистые переднички, я легко представляю себе, что существа эти дарят счастье Габриэль и ей подобным. И на самом деле они дарят им счастье. Наряжать ребенка — одно удовольствие. А трогать его — блаженство. Братья мои, мы тоже знаем, какие утехи дает осязание, мы тоже наслаждались впадинками, выпуклостями и скользили по гладкой коже, находя родинку, чувствуя жаркий трепет… Но жены наши обычно очень нерешительны и не смеют ответить нам, как должно, даже в густом сумраке не решаются погладить своего мужа. Зато посмотрите, как они вольно играют со своим младенцем, щедрей, чем с нами, во сто раз.