Цент на двоих. Сказки века джаза (сборник) - Фицджеральд Фрэнсис Скотт
Питер поклонился.
– Как поживаете? – произнес он.
Рядовой Роуз поставил одну ногу чуть впереди другой, приняв позу, в которой он был готов и к битве, и к бегству, и к переговорам.
– Как поживаете? – вежливо повторил Питер.
– Неплохо.
– Позвольте предложить вам выпить?
Рядовой Роуз бросил на него проницательный взгляд, пытаясь оценить, не дурят ли его.
– Давайте, – наконец ответил он.
Питер указал на стул:
– Присаживайтесь.
– У меня друг, – сказал Роуз. – У меня там друг. – Он показал на зеленую дверь.
– Ну так пускай же и он как можно скорее войдет!
Питер подошел, открыл дверь и пригласил войти рядового Кея – крайне настороженного, сбитого с толку и чувствовавшего себя виноватым. Нашлись стулья, и троица заняла места вокруг чаши с пуншем. Питер поднес каждому по стакану и предложил сигареты из своего портсигара. Оба, немного робея, приняли угощение.
– А теперь, – запросто продолжил Питер, – разрешите мне поинтересоваться, джентльмены, отчего вы предпочли провести часы досуга в помещении, которое, если мне не изменяет зрение, в основном меблировано половыми щетками? И это в то время, когда человечество достигло такого уровня прогресса, что ежедневно, за исключением суббот, в мире производится по семнадцать тысяч стульев… – Он умолк. Роуз и Кей смотрели на него непонимающими глазами. – Скажите же мне, – продолжал Питер, – почему вы предпочли отдыхать на предметах, которые обычно используются для переноски с места на место воды?
В этот момент Роуз внес свою лепту в разговор, крякнув.
– И наконец, – закончил Питер, – поведайте же мне, почему, находясь в здании, увешанном прекрасными и огромными светильниками, вы предпочли провести эти вечерние часы при свете одной-единственной тусклой электрической лампочки.
Роуз посмотрел на Кея; Кей посмотрел на Роуза. Оба засмеялись; оба разразились хохотом; они просто не могли без смеха смотреть друг на друга. Но они не смеялись вместе с этим человеком – они смеялись над ним. Человек, говоривший в таком стиле, с их точки зрения, мог быть только в стельку пьяным либо же буйнопомешанным.
– Смею предположить, что вы – выпускники Йеля? – сказал Питер, допив свой стакан и наливая следующий.
Они опять рассмеялись:
– Не-а!
– Неужели? А я подумал, что вы, наверное, принадлежите к той низшей ступени университетской иерархии, называемой «научной школой Шеффилда».
– Не-а!
– Гм… Н-да, как нехорошо… Вы, значит, питомцы Гарварда, изо всех сил пытающиеся сохранить свое инкогнито в этом, как говорят газеты, «царстве сине-фиолетового»?
– Не-а, – с издевкой произнес Кей, – мы тут просто кое-кого ждем.
– О, – воскликнул Питер, подняв и наполнив их стаканы, – как интересно. Свидание с уборщицами, полагаю?
Оба с негодованием отвергли это предположение.
– Да бросьте вы, – подбодрил их Питер, – не нужно оправдываться. Уборщица нисколько не хуже любой другой дамы. Как говорит Киплинг, «и знатную леди, и Джуди О’Грэди без платья нам не различить».
– Точно, – ответил Кей и, не таясь, подмигнул Роузу.
– Вот, например, что случилось со мной, – продолжил Питер, допив стакан. – Я сюда приехал с одной избалованной девушкой. С самой чертовски избалованной девушкой из всех, что я знаю. Отказалась со мной целоваться, и безо всякой причины! Сознательно внушала мне, что хочет целоваться, и вдруг – хлоп! Взяла и бросила меня! Куда, спрашивается, катится юное поколение?
– Да уж, не повезло, – сказал Кей, – ужасно не повезло.
– Мать честная! – сказал Роуз.
– Еще по бокальчику? – предложил Питер.
– А мы вот почти что ввязались в драку, – сказал Кей после паузы, – но это было слишком далеко.
– Драка? Вот это да! – сказал Питер, покачнувшись на стуле. – Бей их всех! Я служил в армии.
– Там были эти, как их… Большевики!
– Вот это да! – с воодушевлением воскликнул Питер. – Полностью согласен! Бей большевиков! Всех уничтожить!
– Мы американцы! – произнес Роуз, демонстрируя здоровый и дерзкий патриотизм.
– Точно! – сказал Питер. – Величайшая нация мира! Все мы американцы! Еще выпьете?
Они выпили.
VI
В час ночи в «Дельмонико» прибыл популярнейший оркестр – популярнейший даже в те дни популярнейших оркестров! – и его члены с высокомерным видом расселись вокруг пианино, взяв на себя тяжкий груз музыкального сопровождения бала студенческого братства «Гамма Пси». Оркестр возглавлял знаменитый флейтист, прославившийся по всему Нью-Йорку благодаря умению стоять на голове, пританцовывая плечами в духе шимми и при этом наигрывая на своей флейте новейшие джазовые мелодии. Во время его выступления люстры были погашены, лишь на флейтиста был направлен луч прожектора, а второй прожектор блуждал по залу, меняя цвета, как в калейдоскопе, и отбрасывая мерцающие разноцветные тени на тесно сгрудившихся танцоров.
Эдит утанцевалась до такой степени, что все стало казаться ей нереальным; она устала, как дебютантка, и чувствовала легкое приятное головокружение, будто аристократ после нескольких бокалов. Ее мысли плыли сами по себе во власти музыкального ритма; партнеры в красочных движущихся сумерках менялись, будто фантомы из другой реальности, она будто впала в кому, и ей стало казаться, что она танцует уже несколько дней подряд. Она разговаривала урывками на разные темы с множеством мужчин. Один раз ее поцеловали, шесть раз ей объяснились в любви. В начале вечера она танцевала с разными студентами, но теперь, как и у всех популярных девушек на балу, у нее сформировалась собственная свита, то есть с полдюжины кавалеров танцевали исключительно с ней, лишь изредка изменяя ее очаровательному обществу под действием чар какой-нибудь другой избранной красавицы; во время каждого танца они с регулярной и неизменной последовательностью, извиняясь, отбивали ее друг у друга.
Несколько раз она видела Гордона – он долго сидел на лестнице, подперев рукою голову, уставившись тусклыми глазами куда-то вдаль, в направлении танцевального зала. Он выглядел очень подавленным и пьяным, но Эдит всякий раз торопливо отводила глаза. Все это казалось теперь далеким прошлым; ее разум бездействовал, а чувства успокоились, будто она находилась в гипнотическом сне; лишь ноги продолжали танцевать, а голос – по-прежнему поддерживать неопределенно-чувствительные добродушные беседы.
Но не так уж сильно утомилась Эдит, чтобы не испытать праведного гнева, когда ее пару разбил, пригласив ее на танец, величественно пьяный и абсолютно счастливый Питер Химмель. Она глубоко вдохнула и посмотрела ему в глаза:
– Боже мой, Питер!
– Я немного подогрелся, Эдит.
– Питер, ну ты и красавчик! Не кажется ли тебе, что это гадко – так себя вести, когда ты со мной?
Тут она невольно улыбнулась, потому что на нее уставились глаза чувствительной совы, с лица которой не сходила глупая судорожная улыбка.
– Милая Эдит, – пылко начал он, – ты ведь знаешь, что я люблю тебя, правда?
– Ты это наглядно продемонстрировал.
– Я тебя люблю; и я всего лишь хотел, чтобы ты меня поцеловала, – печальным голосом добавил он.
Его смущение, его стыд – все это исчезло. Она была самой прекрасной девушкой на свете. Самые красивые глаза, будто звезды небесные. Он хотел попросить прощения – сначала за то, что самонадеянно пытался ее поцеловать, затем за то, что выпил, но ведь он был так расстроен, думая, что она на него рассердилась…
Их пару разбил рыжий толстяк, который, посмотрев Эдит в глаза, лучезарно улыбнулся.
– Ты пришел сюда со спутницей? – спросила она.
Нет. Рыжий толстяк пришел один.
– Тогда не… Только если, конечно, тебя не сильно затруднит… Не подвезешь ли ты меня сегодня домой? (Эта крайняя робость была очаровательным притворством со стороны Эдит – она прекрасно знала, что рыжий толстяк немедленно растает от нежданного счастья.)
– Затруднит?! О господи, да я буду чертовски рад! Поверь, просто чертовски рад!
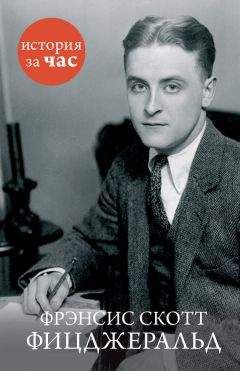



![Фрэнсис Фицджеральд - Три часа между рейсами [сборник рассказов]](/uploads/posts/books/136955/136955.jpg)