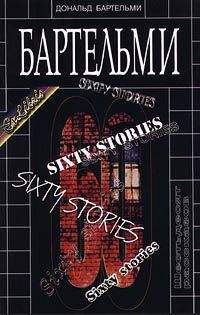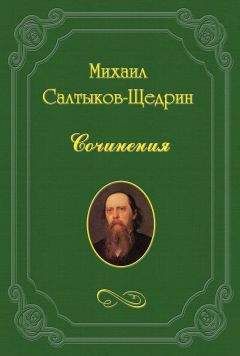Дональд Бартельм - Critique de la vie quotidienne
"У тебя в запасе семь лет", - говорю я Ванде. "Какие еще семь лет?" спрашивает она. "Те семь лет, на которые ты меня переживешь, согласно статистике. И это будут полностью твои годы, можешь с ними делать все что захочется. За все эти семь лет, обещаю, ты не услышишь от меня ни слова критики, ни упрека". - "Дожить бы поскорее", - говорит.
Помню, какая Ванда утром. Я утром "Таймс" читаю, а она проходит сзади и уже со вздохами, хоть полминуты не прошло как поднялась. Ночью я пил, и моя враждебность вырывалась из своего укрытия, словно призрак, которому вставили реактивный мотор. Когда мы играли в шашки, я на нее так тяжело смотрел, что она, бывало, забудет через три поля перескочить и поставить дамку.
Помню, как я чинил мальчишке велосипед. Удостоился похвал у семейного очага. Какой я добрый, вот таким и должен быть отец. Велосипед был дешевенький, за 29.95 или что-то в этом роде, и седло на нем болталось, мамаша как-то является из парка в ярости, дескать, ребенок страдает, а все из-за того, что я палец о палец не желаю ударить, ну насчет седла. "Давай сюда, - говорю, - сейчас сделаем". Пошел в магазинчик, купил кусок трубы полтора дюйма на два, подложил под седло, чтобы не съезжало вниз. Потом шурупами прикрепил гибкую металлическую скобу дюймов восемь длиной от сиденья к раме. Теперь седло и в стороны не уходило. Просто чудеса находчивости. В тот вечер все со мною были такие обходительные, любящие такие. Ребенок девять моих стаканчиков притащил, умничка такой, поставил на столик у кресла и своей игрушечной рейкой выровнял, так что получилась прямая - не придерешься. "Спасибо, - говорю, - спасибо". И мы все улыбаемся друг другу, все улыбаемся, как будто вздумали соревноваться, у кого улыбка продержится дольше.
Я к ребенку в интернат однажды наведался. Папаш туда пускают по очереди, один папаша каждый день. Сидел на стульчике, вокруг дети бегают, занимаются спортом. Принесли мне какой-то маленький пирожок. А потом совсем крохотуля со мной рядом уселась. Говорит, у нее папа живет в Англии. Она к нему ездила, у него по всей квартире ползают тараканы. И мне захотелось взять ее к себе домой.
После того как мы разъехались, пережив то, что называют состоянием несовместимости, Ванда посетила меня в моем холостяцком жилище. Мы пили, и все с тостами. "Давай за ребенка", - предложил я. Ванда подняла стакан. "А теперь за успех твоих замыслов", - сказала она, и я был польщен. Как, однако, мило с ее стороны. Я поднял свой стаканчик. "За нашу страну!" - говорю. И мы выпили. Тут Ванда свой тост предлагает: "За брошенных жен". - "Понимаешь, - замялся я, - так уж и за брошенных..." - "Ну хорошо, - говорит, - за покинутых. За вытесненных, высаженных с судна на берег, за тех, от которых отреклись", - гнет свое она. "Мы, - возражаю, - вроде как вместе решали, что лучше разъехаться". - "А когда приходили гости, - говорит она, - ты меня вечно заставлял торчать на кухне". Я в ответ: "Думал, тебе на кухне нравится. Ты же меня всегда с кухни этой чертовой прочь гнала". - "А еще ты не захотел за пластинку платить, когда выяснилось, что мне надо исправлять прикус". - "А ты о чем думала? Семь лет просидела у окна палец в рот, а теперь пожалуйста - прикус". "И карточку от меня спрятал, когда мне понадобилось купить новое платье". - "Ты и в старом была хороша, - отвечаю, - тем более если пару заплаток с умом поставить". - "Помнишь, - говорит, - нас с тобой в аргентинское посольство пригласили, так ты меня заставил надеть шоферскую кепку, припарковаться и с водилами битый час на улице проторчать, пока ты там беседовал с посланником". - "Ты же по-испански ни бум-бум", объясняю я. "Да, - вздыхает, - не самый удачный у нас вышел брак, совсем не самый удачный". - "Знаешь, - сообщаю я ей, - по данным переписи населения, число одиноких за последние десять лет выросло на шестьдесят процентов. Может, мы с тобой просто попали в струю". Но ее это как-то не очень утешило. "За ребенка", - поднял я стаканчик, а она: "Уже пили". "Ну тогда за мать ребенка", и тут она откликнулась - вот за это давай. По правде сказать, к этой минуте мы уже малость набрались. "Слушай-ка, говорю я, - может, каждый раз вставать необязательно?" - "Слава богу!" и тут же на стул плюхнулась. А я разглядываю ее и все хочу понять, остались хоть следы какие-нибудь того, что я в ней поначалу находил. Следы остались, но одни следы, ничего больше. Реликты. Намеки какие-то на тайну, прежде неприкосновенную, только теперь уж тайну эту ни за что не восстановить. "Думаешь, я не догадываюсь, чем ты занят? - спрашивает. Догадалась. У тебя тур по развалинам". - "Перестань, - отвечаю я. - Ты еще ничего, в общем и целом". - "Ах в общем и целом! - и раз из-за пазухи здоровенный пистолет, такими только лошадей пристреливать. - Давай за мертвых", - предложила, а пистолетом так и вертит в воздухе, так и вертит, все не может успокоиться. Ну выпил я, только со сложным чувством кого это она имеет в виду? "За священных мертвецов! - уточняет, и видно, как она сама себе нравится. - За всеми любимых, всеми ценимых, всеми вспоминаемых, всеми навещаемых, чтобы из гробов не выпрыгнули". И опять - раз за пистолет, это чтобы я при случае тоже не выпрыгнул, что ли? Ствол так и ходит, то в правый висок нацеливается, то в левый, и хоть наводка там, помнится, была примитивная, зато калибр - крупнее не требуется. Грохнуло так, что оглохнуть можно, и пуля вдребезги разнесла бутылку "Дж. энд Б." на каминной полке. Она рыдает, квартира насквозь провоняла виски. Я вызвал для нее такси.
Сейчас Ванде, мне кажется, намного лучше. Она в Нантере, штудирует марксистскую социологию, учится у Лефебра (он автор книги "Critique de la Vie Quotidienne", вот нахал). Ребенок наш в экспериментальном интернате для детей, чьи родители студенты, там, насколько я понял, все делается по-научному, как велел Пьяже. А у меня полный порядок насчет "Дж. энд Б.". Компания производит "Дж. энд Б." ящик за ящиком, год за годом, и непосредственной угрозы сокращения производства, мне говорили, нет.