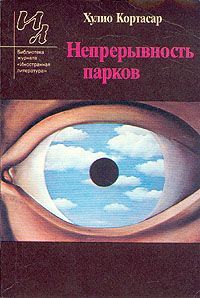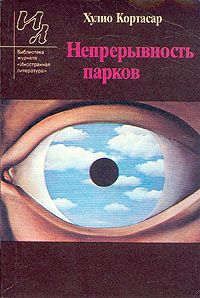Хулио Кортасар - Мы так любим Гленду
Опаснее были споры в кружке, угроза раскола либо рассеивания. Хоть мы чувствовали себя как нельзя более сплоченными единой миссией, однажды вечером раздались голоса аналитиков, зараженных политической философией; в разгар работы возникали моральные проблемы, ставились вопросы, не вступаем ли мы в галерею кривых зеркал, не впадаем ли в барочное безумие подобно резчикам по слоновой кости или на зернышке риса. Нелегко было повернуться спиной к подобным маловерам, ведь кружок мог выполнять свое дело, лишь как выполняет свое сердце или самолет, подчиняясь совершенному ритму. Нелегко было выслушивать нападки, обвинения в эскапизме* и бессмысленной трате сил в наше время, когда сама действительность настойчиво требует их приложения. И тем не менее не было нужды решительно пресекать едва наметившуюся ересь, даже эти маловеры требовали лишь скромных уступок, частичных мелких исправлений - они так же, как и мы, любили Гленду; возобладало чувство, оно, несмотря на расхождения, этические либо исторические, всегда объединяло нас, как и твердая уверенность, что совершенствование Гленды усовершенствует нас самих, усовершенствует весь мир. Мы верили даже, что будем щедро вознаграждены, когда некий философ, преодолев этот период эфемерных угрызений совести, восстановит равновесие, из его уст мы слышали, что всякое отдельно взятое деяние есть также история: великое открытие книгопечатания родилось из самого индивидуального и сугубо частного из желаний - желания повторить и увековечить имя женщины.
Итак, мы добрались до дня, когда у нас уже были доказательства, что образ Гленды появляется теперь на экране без малейшего искажения; ленты всего мира показывали ее такой, какой - мы были убеждены - она сама хотела бы быть на экране, и, может быть, в силу этого нас не слишком удивило сообщение прессы о том, что Гленда уходит со сцены и из кино. Невольный вклад Гленды в наше дело не мог быть ни простым совпадением, ни чудом, просто что-то в ней невольно откликнулось на безвестную нашу любовь, из недр ее существа исторгся единственно возможный ответ, проявление страсти, заключившей нас в последние объятия, и только для профанов это было бы отсутствием. Мы пережили блаженство седьмого дня, последнего дня творения, да, отдых после сотворения мира; теперь мы могли смотреть все шедевры Гленды, не опасаясь коварной угрозы, что в какое-то утро мы вновь столкнемся с ошибками и промахами; теперь мы собирались - невесомые, словно ангелы или птицы,- в абсолютном настоящем, которое даже было в чем-то сходно с вечностью.
Все это так, но некий поэт, родившийся под теми же небесами, что и Гленда, сказал, что вечность влюблена во временное и преходящее, узнать новость выпало Диане, и случилось это всего лишь через год. Так уж водится, и это в природе человека: Гленда сообщала о своем возвращении, приведя всегдашние избитые доводы о невозможности жить без игры в кино и на сцене, о роли, которая создана будто нарочно для нее, и вот она снова снимается. Никто не забудет тот вечер в кафе сразу же после просмотра "Как быть элегантной", возобновленного в центральных кинотеатрах. Едва ли была нужда в словах Ирасусты - у всех во рту был привкус несправедливости и бунта. Мы так любили Гленду, что наша обида на нее не распространялась, не виновата же она в самом деле, что она актриса и что она Гленда; чудовищной была поломка отлаженного механизма, реальность цифр и престижа, всех этих "Оскаров", от которых наш с таким трудом обретенный рай дал опасную трещину. Когда Диана положила руку на плечо Ирасусты и сказала: "Да, это единственное, что нам остается", она говорила от имени всех, совещаться нам не было нужды. Никогда еще наш кружок не обладал такой ужасающей силой, никогда еще не требовалось так мало слов, чтобы пустить эту силу в ход. Мы расстались, с тяжелым сердцем переживая то, что свершится позднее, а когда именно - будет известно заранее только одному из нас. Мы были уверены, что не соберемся больше в кафе, каждый затаит в своем одиночестве совершенство нашего царства. Ирасуста, знали мы, совершит необходимое -- что может быть проще для такого, как он. Мы даже не простились, как это вошло у нас в привычку, когда подразумевалось, что мы соберемся после "Мимолетных возвращений" или "Бича". Лучше было отвернуться, сослаться на поздний час, на то, что уже пора уходить: мы вышли поодиночке, желая забвения до тех пор, пока все не свершится, но мы знали, что его не будет, что в какое-то утро мы развернем газету и прочитаем известие, глупые слова, заученные профессиональные соболезнования. Мы никогда ни с кем об этом не заговорим, мы будем вежливо избегать друг друга в помещении и на улицах и молчать о совершенном, ибо для кружка это станет единственной возможностью сохранить себе верность. Мы так любили Гленду, что предложили ей последнее нерушимое совершенство. На недосягаемой высоте, куда мы ее вознесли, мы убережем ее от падения, верующие в нее могут ее боготворить, не боясь позора: с креста не снимают живых.