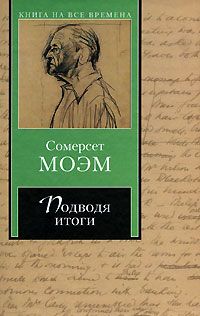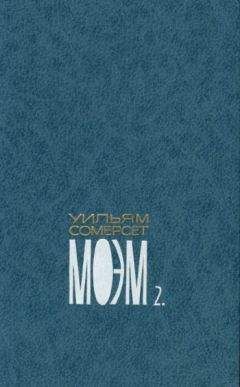Луна и грош - Моэм Сомерсет Уильям
– Я люблю читать фельетоны о театре, – отвечал я, складывая газету.
– Я с удовольствием пообедал, – заметил он.
– А не выпить ли нам здесь же кофе?
– Можно.
Мы взяли по сигаре. Я курил молча, но заметил, что в глазах его мелькал смех, когда он взглядывал на меня. Я терпеливо ждал.
– Что вы делали все эти годы? – спросил он наконец.
Что мог я рассказать о себе? Это была бы летопись тяжелого труда и малых дерзаний; попыток то в одном, то в другом направлении; постепенного познания книг и людей. Я, со своей стороны, остерегался расспрашивать Стрикленда о его делах и жизни, не выказывая ни малейшего интереса к его особе, и под конец был вознагражден. Он заговорил первый. Но, начисто лишенный дара красноречия, лишь отдельными вехами отметил пройденный путь, и мне пришлось заполнять пробелы с помощью собственного воображения. Это были танталовы муки – слушать, как скупыми намеками говорит о себе человек, так сильно меня интересовавший. Точно я читал неразборчивую, стертую рукопись. В общем, мне стало ясно, что жизнь его была непрестанной борьбой с разнообразнейшими трудностями. Но понял я и то, что многое предельно страшное для большинства людей его нисколько не страшило. Стрикленда резко отличало от его соплеменников полное пренебрежение к комфорту. Он с полнейшим равнодушием жил в убогой комнатке, у него не было потребности окружать себя красивыми вещами. Я убежден, что он даже не замечал, до какой степени грязны у него обои. Он не нуждался в креслах и предпочитал сидеть на кухонной табуретке. Он ел с жадностью, но что есть, ему было безразлично; пища была для него только средством заглушить сосущее чувство голода, а когда ее не находилось, ну что ж, он голодал. Я узнал, что в течение полугода его ежедневный рацион состоял из ломтя хлеба и бутылки молока. Чувственный по природе, он оставался равнодушен ко всему, что возбуждает чувственность. Нужда его не тяготила, и он, как это ни поразительно, всецело жил жизнью духа.
Когда подошла к концу скромная сумма, которую Стрикленд привез из Лондона, он не впал в отчаяние. Картины его не продавались, да он, по-моему, особенно и не старался продать их и предпочел пуститься на поиски какого-нибудь заработка. С мрачным юмором рассказывал он о временах, когда ему в качестве гида приходилось знакомить любопытных лондонцев с ночной жизнью Парижа; это занятие более или менее соответствовало его сардоническому нраву, и он каким-то образом умудрился досконально изучить самые «пропащие» кварталы Парижа. Много часов подряд шагал он по бульвару Мадлен, выискивая англичан, желательно подвыпивших и охочих до запрещенных законом зрелищ. Иной раз Стрикленду удавалось заработать кругленькую сумму, но под конец он так обносился, что его лохмотья отпугивали туристов и мало у кого хватало мужества довериться гиду-оборванцу. Затем ему снова посчастливилось, он достал работу – переводил рекламы патентованных лекарств, которые посылались в Англию, а однажды, во время забастовки, работал маляром.
Однако он не забросил своего искусства, только перестал посещать студии и работал в одиночку. Деньги на холст и краски у него всегда находились, а больше ему ничего не было нужно. Насколько я понял, работал он очень трудно и, не желая ни от кого принимать помощи, тратил уйму времени на разрешение технических проблем, разработанных еще предшествующими поколениями. Он стремился к чему-то, к чему именно, я не знал, да навряд ли знал и он сам, и я опять еще яснее почувствовал, что передо мною одержимый. Право же, он производил впечатление человека не совсем нормального. Мне даже почудилось, что он не хочет показать мне свои картины, потому что они ему самому не интересны. Он жил в мечте, и реальность для него цены не имела. Должно быть, работая во всю свою могучую силу, он забывал обо всем на свете, кроме стремления воссоздать то, что стояло перед его внутренним взором, а затем, покончив даже не с картиной (мне почему-то казалось, что он редко завершал работу), но со сжигавшей его страстью, утрачивал к ней всякий интерес. Никогда не был он удовлетворен тем, что сделал; вышедшее из-под его кисти всегда казалось ему бледным и незначительным в сравнении с тем, что денно и нощно виделось его духовному взору.
– Почему вы не выставляете своих картин? – спросил я. – Неужто вам не хочется узнать, что думают о них люди?
– Я не любопытен.
Неописуемое презрение вложил он в эти слова.
– Разве вы не мечтаете о славе? Вряд ли хоть один художник остался к ней равнодушен.
– Ребячество! Как можно заботиться о мнении толпы, если в грош не ставишь мнение одного человека.
Я рассмеялся:
– Не все способны так рассуждать!
– Кто делает славу? Критики, писатели, биржевые маклеры, женщины.
– А, должно быть, приятно сознавать, что люди, которых ты и в глаза не видел, волнуются и трепещут, глядя на создание твоих рук! Власть – кто ее не любит? А есть ли власть прельстительнее той, что заставляет сердца людей биться в страхе или сострадании?
– Мелодрама.
– Но ведь и вам не все равно, пишете вы хорошо или плохо?
– Все равно. Мне важно только писать то, что я вижу.
– А я, например, сомневаюсь, мог ли бы я работать на необитаемом острове в уверенности, что никто, кроме меня, не увидит того, что я сделал.
Стрикленд долго молчал, но в глазах его светился странный огонек, словно они видели нечто, преисполнявшее восторгом его душу.
– Я иногда вижу остров, затерянный в бескрайнем морском просторе; там бы я мог мирно жить в укромной долине, среди неведомых мне деревьев. И там, мне думается, я бы нашел все, что ищу.
Он говорил не совсем так. Прилагательные подменял жестами и запинался. Я своими словами передал то, что он, как мне казалось, хотел выразить.
– Оглядываясь на эти последние годы, вы полагаете, что игра стоила свеч?
Он взглянул на меня, не понимая, что я имею в виду. Я пояснил:
– Вы оставили уютный дом и жизнь такую, какую принято считать счастливой. Вы были состоятельным человеком, а здесь, в Париже, вам пришлось очень круто. Если бы жизнь можно было повернуть вспять, сделали бы вы то же самое?
– Конечно.
– А знаете, что вы даже не спросили меня о своей жене и детях? Неужели вы никогда о них не думаете?
– Нет.
– Честное слово, я бы предпочел, чтобы вы отвечали мне не так односложно. Но иногда-то ведь вы чувствуете угрызения совести за горе, которое причинили им?
Стрикленд широко улыбнулся и покачал головой.
– Мне кажется, что временами вы все же должны вспоминать о прошлом. Не о том, что было семь или восемь лет назад, а о далеком прошлом, когда вы впервые встретились с вашей женой, полюбили ее, женились. Неужто вы не вспоминаете радость, с которой вы впервые заключили ее в объятия?
– Я не думаю о прошлом. Значение имеет только вечное сегодня.
С минуту я раздумывал. Ответ был темен, и все же мне показалось, что я смутно прозреваю его смысл.
– Вы счастливы? – спросил я.
– Да.
Я молчал и задумчиво смотрел на него. Он выдержал мой взгляд, но потом сардонический огонек зажегся у него в глазах.
– Плохо мое дело, вы, кажется, осуждаете меня?
– Ерунда, – отрезал я, – нельзя осуждать боа-констриктора: напротив, его психика несомненно возбуждает интерес.
– Значит, вы интересуетесь мною чисто профессионально?
– Да, чисто профессионально.
– Что ж, вам и нельзя меня осуждать. Сами не бог весть что!
– Может быть, потому-то вы и чувствуете себя со мной непринужденно, – отпарировал я.
Он сухо улыбнулся, но ничего не сказал. Жаль, что я не умею описать его улыбку. Ее нельзя было назвать приятной, но она озарила его лицо, придала ему иное выражение, не хмурое, как обычно, а лукаво-злорадное. Это была неторопливая улыбка, начинавшаяся, а, может быть, и кончавшаяся, в уголках глаз; очень чувственная, не жестокая, но и не добрая, а какая-то нечеловеческая, словно это ухмылялся сатир. Эта улыбка и заставила меня спросить: