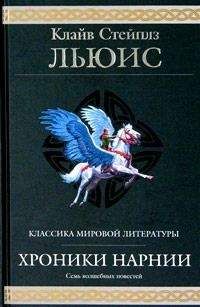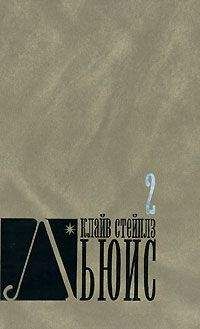Пока мы лиц не обрели - Льюис Клайв Стейплз
Сперва я не заметила в толпе Психеи. Боги коварнее нас, смертных, - они способны на такие подлости, которые никогда и в голову не придут человеческому существу. Когда я наконец заметила сестру, мне стало совсем дурно. Психея сидела на открытых носилках как раз между Царем и Жрецом. А не заметила я ее сперва потому, что они размалевали и разукрасили ее, как храмовую девушку, и нацепили ей на голову пышный парик. Я не могла понять, видит она меня или нет, потому что выражения ее глаз невозможно было разобрать на неподвижном, маскоподобном лице; трудно было даже угадать, в какую сторону они глядят.
Нет предела хитроумию богов. Им мало было погубить Психею - они хотели, чтобы она погибла от руки собственного отца. Им мало было отнять ее у меня - они хотели, чтобы я потеряла сестру трижды: в первый раз - когда над ней прозвучал приговор, во второй - во время нашей странной, тягостной ночной беседы и, наконец, в третий - лишив ее дорогого мне облика. Унгит взяла себе самую дивную красу, когда-либо рожденную на свет, и превратила ее в уродливую куклу.
Позже мне сказали, что я попыталась спуститься вниз, но тут же упала. Меня отнесли и уложили в постель.
В болезненном беспамятстве я пролежала несколько дней. Но я не лишилась чувств и не погрузилась в сон - мне сказали, что я бодрствовала, но рассудок мой помутился. Я бредила, и бред мой был, насколько мне удается вспомнить, путаным и при этом мучительно однообразным.
Видения менялись, но одна навязчивая мысль пронизывала их. Вот вам лишнее доказательство того, как жестоки боги. От них нет спасения ни во сне, ни в безумии, ибо они властны даже над нашими грезами. Более того, именно тогда они обретают над нами наибольшую власть. Спастись от их могущества (если это вообще возможно) удается только тому, кто ведет трезвый образ жизни, всегда сохраняет ясный ум, постоянно трудится. Такой человек не слушает музыки, не смотрит слишком пристально ни на землю, ни на небеса и (это в первую очередь) никогда ни к кому не испытывает ни любви, ни привязанности. Теперь, когда они разбили мое сердце и отняли у меня Психею, они принялись издеваться надо мной, ибо в видениях Психея являлась мне моим злейшим врагом. Все мое возмущение несправедливостью судьбы обратилось против нее. Мне казалось, что сестра ненавидит меня, и мне хотелось отомстить ей за это. Иногда мне мерещилось, что я, Редиваль и Психея снова стали детьми и что мы вместе играем в какую-то игру, но вдруг сестры отказываются играть со мной, и вот - я стою совсем одна, а они, взявшись за руки, потешаются над моим горем. Иногда мне казалось, что я очень хороша собой и влюблена в человека, чем-то похожего на несчастного Тарина, а чем-то - на Бардию (наверное, потому, что Бардия был последним мужчиной, которого я видела перед началом болезни). Мы шли к брачному ложу, но на пороге опочивальни Психея, ставшая карлицей в локоть ростом, уводила у меня жениха, поманив его пальцем. И все гости показывали на меня пальцами и хихикали. Но в этих видениях был, по крайней мере, хоть какой-то смысл. Чаще же я видела только путаные, смутные картины, в которых Психея то сбрасывала меня с огромной скалы, то пинала меня и таскала за волосы по полу (при этом ее лицо становилось чем-то схоже с лицом моего отца), то гонялась за мной по долам I весям с огромным мечом или бичом в руке. Но неизменно она оставалась моим врагом, насмешничающим, издевающимся, измывающимся надо мной, - и я сгорала от жажды мести.
Когда я стала приходить в себя, большинство видений забылось, но оставило по себе горький осадок: мне помнилось, что Психея нанесла мне какую-то большую обиду, хотя я не могла никак вспомнить, какую именно. Мне потом сказали, что часами твердила в бреду: "Жестокая девчонка. Злая Психея. Каменное сердце". Вскоре я совсем поправилась и снова вспомнила, что всегда любила сестру, что та никогда не причиняла мне сознательно зла, хотя меня слегка задело, что при нашей последней встрече она так мало говорила обо мне и так много - о боге Горы, о Царе, Лисе, о Редивали и даже Бардии.
Вскоре я начала различать какой-то приятный шум и поняла, что слышу его уже некоторое время.
- Что это? - спросила я и сама испугалась своего собственного голоса, слабого и хриплого.
- О чем-ты, дочка? - переспросил меня кто-то. Я поняла, что это Лис и что онвсе это время сидел подле моей кровати.
- Этот шум, дедушка. Там, на крыше.
- Это дождь, милая, - ответил Лис. - Да будет славен Зевс, пославший намдождь и вернувший тебе рассудок. Знаешь… нет, сперва поспи. Выпей вот это.
Я увидела, что он плачет, и приняла из его рук чашу с питьем.
Кости мои не были сломаны, ушибы прошли, и с ними боль, но я все еще была очень слаба. Труды и болезни - это утешения, которых богам у нас не отнять. Я бы не стала этого писать, опасаясь подать им подобную мысль, если бы не знала, что они бессильны это сделать. Я так ослабла, что не могла ни гневаться, ни горевать. Пока силы не вернулись ко мне, я была почти что счастлива. Лис был очень ласков со мной и заботлив (хотя горе и его измотало), мои служанки тоже не оставляли меня заботами. Меня любили больше, чем я могла бы подумать. Сон мой стал спокойным, дождь шел не переставая, но порой на небе появлялось солнце, и тогда в окно залетал ласковый южный ветер. Долгое время мы не проронили ни слова о Психее. Когда случалось поговорить, мы говорили о всяких пустяках.
Я многое пропустила. Погода переменилась в тот же самый день, когда я слегла, и Шеннит наполнилась водой. Дождь пролился слишком поздно, чтобы спасти сгоревшие хлеба, но в садах все зеленело и плодоносило. Трава пошла в рост, и удалось сохранить больше скота, чем мы смели надеяться. Лихорадка исчезла, будто бы ее и не было, - моя же хворь была совсем другой природы. Птицы вернулись в Глом, и теперь каждой хозяйке, муж которой владел луком и стрелами или умел расставлять силки, было что положить в похлебку.
Все это мне рассказали Лис и мои девушки. Когда у ложа оставался один Лис, он делился со мной и другими вестями. Народ снова полюбил моего отца. Его жалели и хвалили (тут мы впервые рискнули заговорить о том, что было всего важнее для нас), поскольку он решился принести Великую Жертву. У Священного Древа он, как говорили, рыдал и раздирал свои одежды, обнимал и целовал Психею без конца (чего никогда не делал прежде), но повторял при этом снова и снова, что не может пойти против воли богов и обречь тем свой народ на погибель. Все, кто видел это, не могли сдержать рыданий: самого Лиса там не было, поскольку его не допустили в процессию как раба и чужеземца.
- Дедушка, - сказала я, - неужели он такой лицемер?(Мы вели свои беседы, разумеется, по-гречески.)
- Почему же лицемер, доченька? - возразил Лис. - Сам-то рн искренне верилв то, что говорил. Слезам его можно верить не меньше, чем слезам Редивали. Или небольше.
Затем Лис поведал мне о вестях, пришедших из Фарсы. Тот глупец во время бунта выкрикнул, что у Фарсийского царя одиннадцать сыновей. На самом деле у него их было восемь, но один умер ребенком. Старший был слишком простым и недалеким человеком, и царь (говорят, такое возможно по их законам) назначил наследником третьего сына по имени Эрган. Тогда второй сын, Труния, разгневался и, опираясь на недовольных (а где и когда их не было?), поднял восстание, чтобы отстоять свои права на престол. Из-за этого в Фарсе стало не до Глома; более того - обе партии изо всех сил ищут у нас поддержки, так что на ближайший год никакая опасность уже нам не угрожает.
Через несколько дней, когда Лис снова навестил меня (чаще приходить он не мог, потому что Царю постоянно требовалась его помощь), я спросила:
- Дедушка, ты до сих пор считаешь, что Унгит - это только вымысел поэтов ижрецов?
- Почему бы и нет, дитя мое?
- Если она и вправду богиня, то она дала нам все в обмен на жизнь моей беднойсестры. Посуди сам - все напасти кончились. Ветер сменился в тот самый день, когда…
Тут у меня перехватило горло. Горе с новой силой обрушилось на меня. Лис тоже скривился от боли.