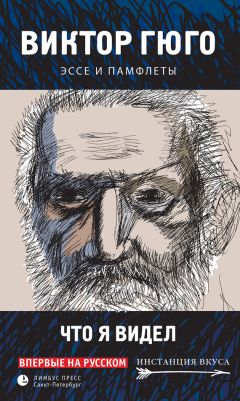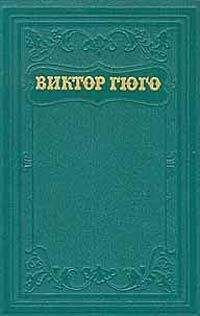Что я видел. Эссе и памфлеты - Гюго Виктор
Некоторые античные мудрецы, возможно, подозревали часть этой истины, но только с Евангелия начинается ее полное, ясное и широкое раскрытие. Языческие школы двигались на ощупь во мраке, настойчиво добиваясь лжи, так же, как и истины на своем полном случайностей пути. Некоторые из их философов проливали порой на предметы слабый свет, который освещал лишь одну их сторону, оставляя другую в еще большей тьме. Отсюда все эти призраки, созданные древней философией. Существовала только божественная мудрость, которая должна была заменить широким и ровным светом все эти мерцающие отблески человеческой мудрости. Пифагор, Эпикур, Сократ, Платон – это факелы; Христос – это дневной свет.
Впрочем, нет ничего более материалистичного, чем античная теогония. Даже не помышляя о том, чтобы подобно христианству отделять дух от плоти, она придает форму и лицо всему, даже сущностям, даже разуму. В ней все видимо, осязаемо, облечено в плоть. Ее боги нуждаются в облаке, чтобы скрыться от взоров. Они пьют, едят, спят. Их ранят, и у них течет кровь; их калечат, и вот они остаются хромыми навеки. У этой религии есть боги и половинки богов. Ее молния куется на наковальне, и в нее, кроме прочих составных частей, вводят три нити крученого дождя, «tres imbris torti radios»1. Ее Юпитер подвешивает мир на золотую цепь; ее солнце поднимает колесница, запряженная четырьмя лошадьми; ее ад – это бездна, вход в которую география отмечает на земном шаре; ее небо – это гора.
Вот почему язычество, которое лепит все свои создания из одной глины, умаляет божество и возвышает человека. Герои Гомера почти под стать богам. Аякс бросает вызов Юпитеру, Ахилл равен Марсу. Мы только что видели, что христианство, напротив, коренным образом отделяет дух от материи. Оно разверзает пропасть между душой и телом, между человеком и Богом.
Чтобы не опустить ни одной черты в очерке, на который мы отважились, обратим внимание на то, что в эту эпоху вместе с христианством и с его помощью в сознание народов проникало новое чувство, незнакомое древним и весьма развитое у наших современников, чувство, которое больше, чем серьезность, и меньше, чем печаль, – меланхолия. И действительно, могло ли сердце человека, до тех пор скованное чисто иерархическими и жреческими культами, не пробудиться и не почувствовать, как какая-то неожиданная способность пускает в нем ростки под влиянием религии человеческой, потому что она божественна, религии, которая из молитвы бедняка создает богатство богача, религии равенства, свободы, любви к ближнему? Мог ли он не увидеть все с новой стороны, с тех пор как Евангелие показало ему душу через чувства и вечность после жизни?
Впрочем, в этот самый момент мир претерпевал столь глубокие перемены, что не могло не произойти того же самого в умах. До тех пор гибель империй редко проникала в сердце народа; низвергались короли, исчезали величества, ничего более. Молния поражала лишь высшие сферы, и, как мы уже указывали, казалось, что события развиваются со всей торжественностью эпопеи. В античном обществе индивидуум был расположен так низко, что бедствие, чтобы его поразить, должно было опуститься до его семьи. Поэтому он почти не знал других несчастий, помимо домашних горестей. Было практически невозможно, чтобы общие беды государства могли привести в беспорядок его жизнь. Но в тот момент, когда утвердилось христианское общество, старый континент был потрясен. Все было поколеблено до самых корней. События, призванные разрушить древнюю Европу и построить новую, сталкивались, стремительно и неустанно развивались и в беспорядке толкали народы – одних к свету, других во мрак. На земле поднялся такой шум, что какая-то часть его не могла не дойти до сердца народов. Это было больше чем эхо, это был ответный удар. Человек, перед лицом этих великих превратностей, замыкаясь в себе, начинал испытывать сочувствие к человечеству и размышлять о горькой насмешке жизни. Из этого чувства, которое для язычника Катона было отчаянием, христианство сделало меланхолию.
В то же время зарождался дух исследования и любознательности. Эти великие катастрофы были также и великими зрелищами, поразительными перипетиями. Это был север, ринувшийся на юг, римская вселенная, меняющая форму, последние конвульсии целого мира, бьющегося в агонии. Как только этот мир умер, тучи риторов, грамматистов, софистов, подобно мошкаре, устремляются на его огромный труп. Можно видеть, как они кишат, слышать их жужжание в этом очаге разложения. Все наперебой они будут изучать, комментировать, обсуждать. Каждый член, каждый мускул, каждая жилка огромного распростертого тела переворачивается во все стороны. Конечно, это должно было быть радостью для этих анатомов мысли – иметь возможность с их первых же опытов производить исследования в большом масштабе, иметь мертвое общество в качестве первого объекта для вскрытия.
Итак, мы видим, как одновременно появляются, как бы протягивая друг другу руки, гений меланхолии и размышления и демон анализа и споров. На одном конце этой переходной поры находится Лонгин, на другом – святой Августин2. Не нужно бросать пренебрежительный взгляд на эту эпоху, когда находилось в зародыше все то, что затем принесло плоды, на это время, когда самые незначительные писатели, если нам простят тривиальное, но откровенное выражение, послужили навозом для будущей жатвы. Средневековье было привито к Поздней Римской империи.
Вот, стало быть, новая религия, новое общество; мы должны были увидеть, как на этой двойной основе вырастает новая поэзия. До тех пор, и пусть нам простят то, что мы излагаем выводы, которые читатель должен был уже самостоятельно сделать из всего вышесказанного, до тех пор, действуя так же, как античный политеизм и философия, чисто эпическая муза древних изучала природу только с одной-единственной стороны, безжалостно выбрасывая из искусства почти все то, что в мире, которому она должна была подражать, не соответствовало определенному типу красоты. Типу, изначально прекрасному, но, как происходит всегда со всем, что возведено в систему, ставшему в последнее время фальшивым, пошлым и условным. Христианство приводит поэзию к правде. Как и оно, новая муза увидит вещи взглядом более возвышенным и широким. Она почувствует, что не все в мироздании по-человечески прекрасно, что уродливое существует там рядом с прекрасным, безобразное – с миловидным, гротескное – с возвышенным, зло – с добром, темнота – со светом. Она будет спрашивать себя, должен ли узкий и относительный разум художника взять верх над бесконечным, абсолютным разумом творца; человеку ли исправлять Бога; будет ли искалеченная природа более прекрасной; имеет ли искусство право, так сказать, расщеплять человека, жизнь, мироздание; будет ли каждая вещь действовать лучше, если у нее отнимут мускулы и ее движущую силу; наконец, является ли фрагментарность средством достижения гармонии. Именно тогда, устремив взор на события, одновременно смехотворные и грозные, под влиянием того самого духа христианской меланхолии и философской критики, на который мы только что обратили внимание, поэзия сделает великий шаг, решительный шаг, шаг, который, подобно землетрясению, изменит все лицо духовного мира. Она начнет действовать, как природа, соединяя, но не смешивая в своих творениях тьму со светом, гротескное с возвышенным, другими словами, тело с душой, животное с духом; поскольку отправная точка религии всегда есть отправная точка поэзии. Все взаимосвязано.
Вот, таким образом, принцип, чуждый античности, новый элемент, введенный в поэзию; и так же, как дополнительное условие в существовании изменяет его целиком, в искусстве развивается новая форма. Этот элемент – гротеск. Эта форма – комедия.
И да позволено нам будет на этом настаивать; так как мы только что указали на характерную черту, на фундаментальное различие, которое, по нашему мнению, отделяет современное искусство от античного, нынешнюю форму от мертвой, или, пользуясь словами более расплывчатыми, но более распространенными, литературу романтическую от литературы классической.