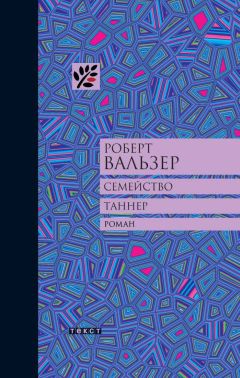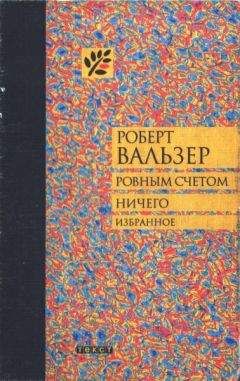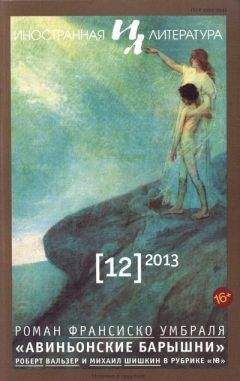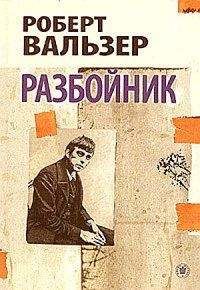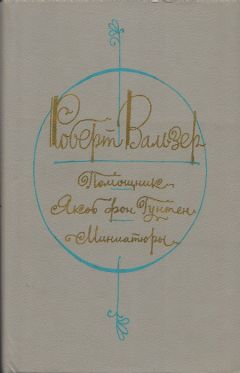Семейство Таннер - Вальзер Роберт Отто
– Приехал ваш брат, Симон, в офицерском мундире, – сказала Клара, – и ваша сестра, и еще один господин, по имени Себастиан.
Симон тотчас расплатился за обед, и они вместе покинули столовую. После их ухода одна из подавальщиц заметила спящего, встряхнула его несколько раз и на удивление строго сказала:
– Не спать! Я к вам обращаюсь! Вы что, не слышите? Здесь спать нельзя!
Старик пробудился.
Завершился этот день чудесным вечером. Весь город гулял по красивой озерной набережной, под пышными деревьями с большими листьями. Прохаживаясь здесь, среди такого множества веселых, тихонько беседующих людей, ты невольно чувствовал себя будто в сказке. Город пламенел в огне закатного солнца, а позднее, черный и мрачный, догорал в тускнеющем зареве уже ушедшего за горизонт светила. Летом солнцу присуще что-то чудесное, пленительное. Озеро мерцало в темноте, множество огней искрилось в глубине тихих вод. До чего же великолепно выглядели мосты; идешь по ним и видишь, как внизу стремительно проплывают маленькие темные лодки; в лодках сидели девушки в светлых платьях, нередко с какой-нибудь большой плоскодонки, медленно и величаво скользившей по волнам, долетал теплый, певучий звук арфы, настраивающий на ночной лад. Этот звук терялся в черноте и вновь возвращался, оживал, звонкий и теплый, густой, берущий за сердце. Как далеко разносились звуки простого инструмента, на котором играл какой-то лодочник! Ночь от этого казалась еще больше и глубже. Вдали на берегу светились огоньки сельских поселений, словно сверкающие красноватые камешки на тяжелых, темных царских ризах. Вся земля словно благоухала и притихла, как спящая девушка. Огромный темный купол ночного неба раскинулся над людьми, над горами и огоньками. Озеро как бы утратило свою объемность, и небо обхватило его, заключило в себе, накрыло сводом. Люди собирались кучками. Множество молодежи, и все, казалось, погружены в мечты, и на всех лавочках теснились спокойные, отдыхающие люди. Впрочем, хватало и легкомысленных, горделиво кокетливых женщин, а также и мужчин, которые не сводили глаз с этих женщин, шли за ними следом, то слегка медлительно, то устремляясь вперед, пока наконец не собирались с духом и не находили слова, чтобы завести разговор. Кой-кому в этот вечер и головомойку устроили, как говорится.
Симон шагал обок Клауса и был счастлив меткими и простыми ответами внушить брату, который засыпал его вопросами, уверенность, что он отнюдь не конченый человек. Говорил он с известной гордостью и одновременно с оттенком смирения перед более зрелым братом, хотя тот, спрашивая об иных вещах как наивный ребенок, все ж таки обнаруживал ласковую озабоченность. Разговор они вели в красивых, длинных, витиеватых фразах, так получалось само собой, и Клаус радовался, что брат во многом выказывает понимание, тогда как ему казалось, что Симон, в его обстоятельствах, станет над этим смеяться и ехидничать.
– Я полагал тебя далеко не столь серьезным, каким вижу теперь!
– Не в моих привычках, – отвечал Симон, – показывать, что я с благоговением отношусь ко многим вещам. Обычно я держу это при себе, так как думаю, что бесполезно делать серьезную мину, коли судьба назначила тебе, ну то есть, может быть, назначила играть роль шута. Судеб много, очень много, и в первую очередь перед ними я готов склонить голову. Тут уж ничего не поделаешь. А в остальном пусть-ка кто попробует сказать, будто я смущенно и уныло вешаю голову. Я уже многим говорил, как со мною обстоит в этом смысле.
Все это Симон говорил плавными фразами и с правильным ударением, притом совершенно спокойно и дружелюбно, так что Клаус воспринимал заявления младшего брата не как мировую скорбь, а как своего рода происходящие в его душе поиски, попытки прояснить свою позицию в отношении мира. Он убедился, что Симон обладает дельными качествами, но слегка опасался, что качества эти окружали его лишь поверхностно, как бы играючи плясали вокруг и увлекали, тогда как ему-то хотелось, чтобы они были в брате укоренены. Ведь в пылу речи такая душа с легкостью воспаряла в мир усердия и прекрасного трудолюбия, чтобы затем часами упиваться собственными рассуждениями, а именно при встрече после долгой разлуки. И все же Клаус нарадоваться не мог на брата и с явным удовольствием говорил ему вещи приятные и утешительные. Позади них, на некотором расстоянии, шли, тесно прижавшись друг к другу, Клара и Каспар. Красавица и музыка ночи пьянили художника. Он фантазировал о конях, что скачут по ночным садам, неся в седле прекрасных, стройных всадниц, чьи амазонки играют у земли с копытами коней. А потом дерзким, неистовым смехом смеялся над всем – над людьми, над пейзажем, просто над всем, что попадалось на глаза. Клара даже не пыталась унять его, напротив, ей нравилась неистовость артистической натуры. О, как она любила юношеское, дерзкое, даже надрывное в этой мальчишеской натуре, которая еще только развивалась в натуру мужскую. Он мог говорить какие угодно нелепости, в устах другого человека они, быть может, звучали бы смехотворно и глупо, но в его устах казались ей волшебной мелодией. Что же в этом человеке заставляло Клару считать его безоговорочно прекрасным, в любой позе, в любом жесте, в поведении, в делах и поступках, речах и молчании? Он мнился ей превыше всех других людей, превыше всех других мужчин, хотя едва-едва успел стать мужчиной. В его походке, пожалуй, сказала бы она, сквозило что-то неуклюжее и одновременно властное. Совершенно безмятежный, а вместе с тем робкий, простодушный, глубоко-ребячливый. Такой спокойный и такой порывистый! Она видела, как в темноте поблескивают его светлые волосы, юные и волнистые. Вдобавок шаг и осанка – скромная, вопрошающая, задумчиво-горделивая. Этот юноша, размышляя о ком-либо, наверняка погружается в мечты. Каспар притих. Она все время смотрела на него, все время! Здесь, этой ночью, полной гуляющих людей, было так приятно, мучительно приятно, смотреть на него. Смотреть на него, думала она, куда приятнее, чем целовать. Рот у него приоткрыт, словно от боли; конечно, он никакой боли не испытывал, нет-нет, просто губы так сложились, создавая страдальческое впечатление. Глаза Каспара холодно и спокойно глядели вдаль, будто видели там что-то более интересное. И как бы говорили: «Мы-то видим красоту; глазам других людей мучиться не стоит, все равно им никогда не увидеть то, что видим мы!» Брови его восхитительно изгибались, чуть-чуть, словно от беспокойства, словно ангелы, склонившиеся над своими детьми, над глазами, которые и выглядели, и смотрели в мир так, будто каждую минуту их можно повредить. «Конечно, глаз любого человека легко уязвим, но, когда я смотрю в его глаза, мне вдруг становится так больно, словно туда уже вонзились осколки. Глаза такие большие, такие выпуклые, кажется, ничто их не тревожит, они такие безрассудные, широко распахнутые; как же легко их повредить!» – сетовала она. Не знала даже, любит ли он ее, но какая разница, она-то, она любила его, и этого довольно, да, так и должно быть, она готова была заплакать. В эту минуту к ним вернулись Симон и Клаус. Клара постаралась кое-как овладеть собой, подхватила Симона под руку и пошла с ним вперед.
– Дай мне посмотреть в твои глаза, они у тебя такие красивые, Симон, глядишь в них и словно лежишь в мягкой постели, когда все спокойно и можно помолиться, – сказала она ему.
Клаус и Каспар шагали молча. Они не находили общего языка с тех пор, как несколько лет назад, повздорив, перестали видеться и писать друг другу. Клаус из-за этого очень огорчался, тогда как Каспар воспринимал сей факт как своего рода неизбежность. Сказал себе, что непонимание меж братьями совершенно в порядке вещей. Не хотел оглядываться назад, на давние происшествия, которые, кстати, считал не стоящими размышлений, именно потому, что они остались в прошлом. Он привык идти прямо вперед, полагая оглядку назад, на давние взаимоотношения, попросту вредной. И вот Клаус, которому стало невмоготу молчать, заговорил об искусстве, побуждая брата съездить разок в Италию, чтобы достичь там должной художественной зрелости.