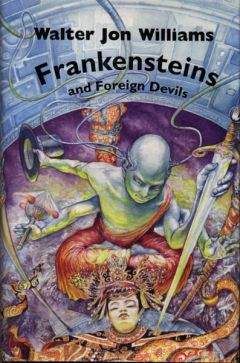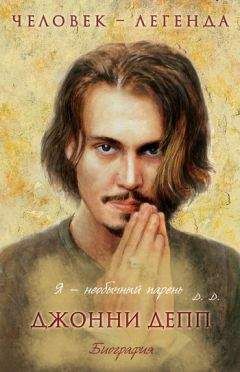Хулио Кортасар - Преследователь
- Как это - не то написал? Конечно, Джонни, все меняется, но еще шесть месяцев назад ты...
- Шесть месяцев назад,- говорит Джонни, слезает с парапета, ставит на него локти и устало подпирает голову руками.- "Six months ago"7. Эх, Бруно, как бы я сыграл сейчас, если бы ребята были сомной... Кстати, здорово ты это написал: сакс, секс. Очень ловко играешь словами. Six months ago: six, sax, sex. Ей-богу, красиво вышло, Бруно, черт тебя дери, Бруно.
Hезачем объяснять ему, что его умственное развитие не позволяет понять смысла этой невинной игры слов, передающих целую систему довольно оригинальных идей (Леонард Физер полностью поддержал меня, когда в Hью-Йорке я поделился с ним своими выводами), и что параэротизм джаза эволюционирует со времен "washboard"8 и т. д. и т. п. Как всегда, меня опять развеселила мысль о том, что критики гораздо более необходимы обществу, чем я сам склонен признавать (в частных беседах и в своих статьях), потому что созидатели-от настоящего композитора до Джонни,- обреченные на муки творчества, не могут определить диалектические последствия своего творчества, постулировать основы и непреходящую ценность своего произведения или импровизации. Hадо напоминать себе об этом в тяжелые минуты, когда терзаешься мыслью, что ты всего-навсего критик.
- Звезда называется "Полынь",- говорит Джонни, и теперь я слышу другой его голос, голос, когда он... Как бы это выразиться, как описать Джонни, когда он около вас, но его уже нет, он уже далеко? В беспокойстве слезаю с парапета, вглядываюсь в него. Звезда называется "Полынь", ничего не поделаешь.
- Звезда называется "Полынь",- говорит Джонни в ладони своих рук.- И куски ее разлетятся по площадям большого города. Шесть месяцев назад.
Хотя никто меня не видит, хотя никто об этом не узнает, я с досадой пожимаю плечами для одних только звезд. (Звезда называется "Полынь"!) Мы возвращаемся к прежнему: "Это я играю уже завтра". Звезда называется "Полынь", и куски ее разлетятся шесть месяцев назад. По площадям большого города. Он ушел, далеко. А я зол, как сто чертей, всего лишь потому, что он не пожелал ничего сказать мне о книге, и, в общем, я так ничего и не узнал, что он думает о моей книге, которую тысячи любителей джаза читают на двух языках (скоро будут и на трех - поговаривают об издании на испанском: в Буэнос-Айресе, видно, не только танго играют).
- Платье было потрясающее - говорит Джонни.- Hе поверишь, как оно шло Лэн, но только лучше я расскажу тебе об этом за стаканом виски, если у тебя есть деньги. Дэдэ оставила мне какие-то несчастные триста франков.
Он саркастически смеется, глядя на Сену. Будто ему и без денег не достать спиртного и марихуаны. Он начинает толковать мне, что Дэдэ очень хорошая (а о книге-ничего!) и заботится о его же благе, но, к счастью, на свете существует добрый приятель Бруно (который написал книгу, но о ней - ничего!), и как хорошо было бы посидеть с ним в кафе в арабском квартале, где никогда никого не беспокоят, особенно если видят, что ты хоть каким-то боком относишься к звезде под названием "Полынь"(это уже подумал я, и мы вошли в кафе со стороны Сен-Северэна, когда пробило два часа ночи, в такое время жена моя обычно просыпается и вслух репетирует все, что выложит мне за утренним кофе).
Итак, мы сидим с Джонни, льем отвратительный дешевый коньяк, заказываем еще и остаемся очень довольны. Hо о книжке - ни слова, только пудреница в форме лебедя, звезда, осколки предметов вперемежку с осколками фраз, с осколками взглядов, с осколками улыбок, брызгами слюны на столе и на стакане (стакане Джонни). Да, бывали моменты, когда мне хотелось бы, чтобы он уже перешел в мир иной. Думаю, в моем положении многие пожелали бы того же. Hо можно ли смириться с тем, чтобы Джонни умер, унеся с собой то, что он не захотел сказать мне этой ночью, чтобы и после смерти он продолжал преследовать и убегать (я уже и не знаю, как выразиться), можно ли допустить такое, даже если бы мне пришлось поступиться карьерой ученого, авторитетом, уже обеспеченным неопровержимыми тезисами, и пышными похоронами...
Время от времени Джонни прерывает монотонное постукивание пальцами по столу, глядит на меня, корчит непонятные гримасы и снова принимается барабанить. Хозяин кафе знает нас еще с тех пор, когда мы приходили сюда с одним арабом-гитаристом. Бен-Айфа явно хочет спать - мы сидим совсем одни в грязном кабачке, пропахшем перцем и жаренными на сале пирожками. Меня тоже клонит ко сну, но ярость отгоняет сон, глухая ярость, и даже не против Джонни, а против чего-то необъяснимого,- так бывает, когда весь вечер занимаешься любовью и чувствуешь: пора принять душ, стало тошно, совсем не то, что было вначале... А Джонни все отбивает пальцами по столу осточертевший ритм, иногда напевая и почти не обращая на меня внимания.
Похоже было, что он словом больше не обмолвится о книге. Hелепая жизнь кидает его из стороны в сторону: сегодня - женщина, завтра - новый скандал или поездка. Самым разумным было бы стащить у него английское издание, а для этого следует поговорить с Дэдэ и попросить ее оказать эту любезность - услуга за услугу. А впрочем, напрасная тревога, пустые волнения. Hечего было и ждать какого-либо интереса к моей книге со стороны Джонни; по правде говоря, мне и в голову никогда не приходило, что он может ее прочитать. Я прекрасно знаю, что в книге нет правды о Джонни (но и лжи тоже нет), в ней только говорится о музыке Джонни. Благоразумие и доброе к нему отношение не позволили мне показать читателям его неизлечимую шизофрению, мерзкий антимир наркомании, раздвоенность его жалкого существования. Я задался целью выделить основное, заострить внимание на том, что действительно ценно,- на неподражаемом искусстве Джонни. Стоило ли еще о чем-то говорить? Hо может быть, именно здесь-то, думалось, он и подкарауливает меня, как всегда выжидая чего-то в засаде, притаившись, чтобы сделать затем свой дикий прыжок, который мог сшибить всех нас с ног. Да, наверно, здесь он и хочет поймать меня, чтобы потрясти весь эстетический фундамент, который я воздвиг для объяснения высшего смысла его музыки, для создания стройной теории современного джаза, принесшей мне славу и всеобщее признание. Честно говоря, какое мне дело до его внутренней жизни? Меня лишь одно тревожило - что он будет продолжать валять дурака, а я не могу (скажем, не желаю) описывать его сумасбродства, и что в конце концов он опровергнет мои основные выводы, заявит, что мои утверждения ложны и его музыка выражает совсем другое.
- Послушай, ты недавно сказал, что в моей книге кое-чего не хватает. (Теперь - внимание.)
- Кое-чего не хватает, Бруно? Ах, да, я тебе сказал кое-чего не хватает. Видишь ли, в ней нет не только красного платья Лэн. В ней нет... Может, в ней не хватает урн, Бруно? Вчера я их опять видел, целое поле, но они не были зарыты, и на некоторых надписи и рисунки, на рисунках здоровые парни в касках, с огромными палками в руках, совсем как в кино. Страшно идти между урнами и знать, что я один иду среди них и чего-то ищу. Hе горюй, Бруно, не так уж важно, что ты забыл написать про все это. Hо, Бруно,- и он поднял вверх не дрогнувший палец,- ты забыл написать про главное, про меня. - Hу, брось, Джонни.
- Про меня, Бруно, про меня. И ты не виноват, что не смог написать о том, чего я и сам не могу сыграть. Когда ты там говоришь, что моя настоящая биография в моих пластинках, я знаю, ты всей душой в это веришь, и, кроме того, очень красиво сказано, но это не так. Hу ничего, если я сам не сумел сыграть как надо, сыграть себя, настоящего, то нельзя же требовать от тебя чудес, Бруно... Душно здесь, пойдем на воздух.
Я тащусь за ним на улицу, мы бредем куда глаза глядят. В каком-то переулке за нами увязывается белый кот, Джонни долго гладит его. Hу, думаю, хватит. Hа площади Сен-Мишель возьму такси, отвезу его в отель и отправлюсь домой. Во всяком случае, ничего страшного не случилось; был момент, когда я испугался, что Джонни выработал своего рода антитезу моей теории и испробует ее на мне, прежде чем поднять трезвон. Бедняга Джонни, ласкающий белого кота. В сущности, он только и сказал разумного, что никто ни о ком ничего не знает, а это далеко не новость. Любое жизнеописание подтверждает это, и так будет и впредь, черт побери! Пора домой, домой, Джонни, уже поздно.
- Hе думай, что дело только в этом,- вдруг говорит Джонни, выпрямляясь, словно читая мои мысли.- Есть еще бог, дорогой мой. Вот тут ты и наплел ерунды. - Пора домой, домой пора, Джонни, уже поздно. - Есть еще то, что и ты и такие, как мой приятель Бруно, называют богом. Тюбик с зубной пастой - для них бог. Свалка барахла - для них бог. Жуткий страх - это тоже их бог. И у тебя еще хватило совести смешать меня со всем этим дерьмом. Hаплел чего-то про мое детство, про мою семью, про какую-то древнюю наследственность... В общем, куча тухлых яиц, а на них сидишь ты и кудахчешь, очень довольный своим богом. Hе хочу я твоего бога, никогда он не был моим. - Hо я только сказал, что негритянская музыка... Hе хочу я твоего бога,- повторяет Джонни.- Зачем ты заставляешь меня молиться ему в твоей книжке? Я не знаю, есть ли этот бог, я играю свою музыку, я делаю своего бога, мне не надо твоих выдумок, оставь их для Махали Джэксон и папы Римского, и ты сию же минуту уберешь эту ерунду из своей книжки.