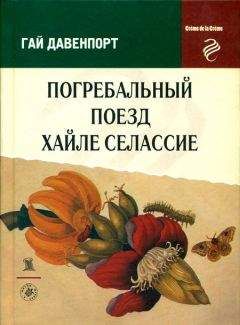Гай Давенпорт - 1830

Обзор книги Гай Давенпорт - 1830
Давенпорт Гай
1830
ГАЙ ДАВЕНПОРТ
1830
Из сборника "Двенадцать рассказов"
В первую ночь столетия Пьяцци(1) обнаружил планету Цереру.
А я оценил безупречную красоту сицилийского глаза, исполнившего предсказания Титиуса и Боде(2), чьи математические расчеты указывали на то, что должна существовать планета, орбита которой будет пролегать между орбитами Марса и Юпитера, одним ясным утром в Санкт-Петербурге, за шоколадом с князем Потемкиным-Таврическим.
И кто, как не Джузеппе Пьяцци! Монах, астроном, последователь Караффы, архиепископа Кьети, позднее ставшего четвертым Паоло(3).
- Похоже на страницу Георгик, сказал я, а князь извлек свой монокль, дохнул на него и протер большим красным носовым платком.
- Столько всего подходит к кульминации, столько продвигается вперед. Вот вам христианин - до сих пор вглядывается в свет арабских звезд, как будто улицы Вавилона по-прежнему запружены быками, верблюдами и клетками с ослепленными вьюрками. Однако смотрит он в телескоп, построенный Хершелем(4), и его звездные карты опубликованы академиями. Как у первооткрывателя, у него - привилегия дать имя новой планете. Cerere, говорит он. Церера, мать ячменя древней Сицилии.
- Komilfo(5), ответил князь, прихлебывая шоколад.
- Именно. Однако, есть некий виргилический пафос в том, что присвоил он это древнее имя обломку разбитой планеты. Церера, как я полагаю, - лишь около пятисот километров в диаметре. Когда в последующие три года открыли Палладу, Юнону и Весту, стало ясно, что все они, вместе с Церерой, останки взорвавшейся целой планеты. Добрый Пьяцци, должно быть, чувствовал, что смотрит на естественный символ распада того золотого мира, который религия, исповедуемая им, нерешительно обратила в трагические руины. Блуждающую звезду именовал язык поэта. Грядет день, дорогой моя князь, когда астрономы назовут новую звезду Джексоном или присвоят ей порядковый номер.
- Даже сейчас в Санкт-Петербурге довольно людей, заметил князь, готовых назвать звезду в честь французской актриски или скаковой лошади.
- Мы, я полагаю, вступаем в век огня.
Я произнес эти слова, не подумав. Они слетели с моего языка, и я сам услышал их с тем же самым изумлением, что и князь, по-рыбьи приоткрывший рот.
- Войны? спросил он.
Я кивнул.
- А вы, как я припоминаю, поэт?
- Поэт, ответил я.
Он заметно успокоился. Для любой русской знати в это время все англичане - обществоведы точно так же, как все немцы - математики, а итальянцы - скульпторы. "Американский" же - значит торговец хлопком, методист или сочинитель романов о вьяндоттах(6) и сиу. Тут же американский поэт, рассуждающий о звездах с классическими именами, открытых сицилийскими священниками, и толкующий о свирепых войнах. Я замечал, как он уже отвергает мою воинственную болтовню как плод неосведомленного и кипучего ума.
Все мои детство и юность на Северную Америку падали величественные звездные дожди. Целые ночи напролет фейерверки метеоритов шипели и вздыхали по всему небу, прежде чем я сочинил свое первое стихотворение о нове, вспыхнувшей перед взором Тихо Браге(7), и написал свой первый рассказ о призраке коня, выскочившем из каскада пламени, как только леониды изобильно пролились на землю - люди уже много столетий такого не припоминали. Огонь, падающий огонь. Ночь Св. Лаврентия походила на Четвертое Июля в Вашингтоне, и весь ноябрь серебряные и красные аэролиты, струившиеся из созвездия Льва, градом сыпались наземь. Два часа в виргинском небе я наблюдал ракетный огонь - густой, будто снегопад.
Свой первый рассказ, сказал я. Вернее было бы сказать - свой единственный рассказ. Он произошел из той Германии разума, чьи царственные министры - барон фон Харденберг (он как раз лежал на смертном одре, когда Пьяцци впервые заметил Цереру-скиталицу) и тот двойной человек, кто создал Кота Мурра как Эрнст Теодор Вильгельм Гоффманн(8) (или же сам был создан им), а Ундину сочинил как Эрнст Теодор Амадей Гоффманн. Ах Господи! а нам достался Эндрю Джексон(9)!
Однако стихи свои я заимствовал у мира звезд. Огонь Германии - это свечение дымящихся каровых озер, лунный свет в тумане, двусмысленная духовность их философии. Германский ум обитает в глубинах подобно Ундине и обладает когтями подобно Мурру. Как дома он чувствует себя в ночи, ему снится его жизнь, и живет он в своих сновидениях.
Огонь же арабских звезд холоден и далек, и существует он в бессчетных лабиринтах замыслов, в чудовищах, выхваченных остриями света, в туманностях, в утраченных вселенных мерцающей звездной пыли, в мертвых лунах.
Сказав, что столетие станет веком огня, я, повидимому, думал как о германском пламени духа, ревущем в материи, так и об арабском огне гораздо более тонкого горения, различимом далеко не всеми. Не фон Харденберг ли первым проник в подлинную природу света, когда предпочел переселиться в ночь? Ночь ведь - не только полумрак земной, падающий наружу, в пространство, подобно конусу тени.
Она также устремлена внутрь и вниз земли и человека. Он свою ночь обрел в гротах морских, и богиней его, при всем его благочестии, была русалка. Хладный пламень ее чешуи станет знаком этого столетия.
Неужели я действительно сказал все это князю Потемкину?
В нашей первой беседе по моем прибытии в Санкт-Петербург он говорил об электричестве и локомотивах, о водяном паре и часах. Не сможет ли электричество породить общественную справедливость?
- Ваши рабы в Виргинии, наши крепостные здесь, в Московии, говорил он, разве машины не освободят их от труда?
Мы обнаружили разломанную Цереру в ту минуту, когда начался век. В первые три года столетия мы также нашли разбитую Палладу, загубленную Юнону и ярчайшую из всех четырех потерянных скиталиц - разорванную Весту.
Паллада. Афина, разумная. Она выжила в нас, словно под сенью какой-то ужасной ненасытной птицы - вороны гуннов или обычного ворона готов. А Веста и Юнона, невеста и мать - мы отыскали их знаки. Знаки, знаки.
Что за предзнаменование сулят они нам, хотелось мне сказать князю, но мысли свои я оставил при себе. Церера и Паллада, тело и разум, душа земли и наша душа.
Юнона, душа чистая, благодатная, зрелая. Веста, душа по-прежнему таящаяся, сознающая лишь себя самоё, нетронутая, подобная пружине.
И всю жизнь мою звезды сыпались дождем.
Я улыбаюсь, вспоминая свою миссию в то время. Ибо у нас вызывают улыбку те идеалы, что выходят за пределы нашей юности, которые с возрастом мы признаем великолепными безрассудствами. Я направлялся на ионический остров Занте, покатые пастбища которого весной лиловы от гиацинтов. С шестью своими сестрами лежит он посреди фиолетового моря - Корфу, Санта-Маура, Кефалония, Итака, Кифера, Паксос.
Мне, кому на глаза наворачивались слезы при виде форсайтии в Виргинии, суждено было увидеть лилейные поля Левкадии. Мне, слегавшему от любви к женщинам величественным, будто Юнона, в кринолинах, шотландских шалях и шляпках, предстоит увидеть гречанок, чьи хлебные волосы обернуты турецкими тканями, чьи ноги нагие топтали виноград. Isola d'oro!(10)
Не здесь ли облачался он в броню? Ведь именно на Занте восхищенный английский камердинер и исполненные благоговения сержанты сулиотов надевали на Байрона наголенники, нагрудник кирасы, бахромчатые эполеты, zone(11) и шлем с конским хвостом. Никто не произнес вслух Ахиллес, когда привязывали металлическую пластинку к пяте его ременной сандалии, но иной мысли у них в умах и возникнуть не могло.
И ведь на Занте молодого лэрда запечатали в его свинцовый гроб.
Не огонь ли пронизывает всю образность Илиады? Пламя и пшеница, ярость и Церера.
- Mais?(12) выразил свое изумление князь Потемкин. Французское возражение сорвалось с его обрамленных усами губ словно овечье блеянье.
- Вы проделали весь этот путь до нашей русской столицы ради того, чтобы просить военной помощи для несчастных греков, ведущих свою войну за независимость?
Сражаться с турками!
- Сражаться за свободу, ответил я. Elevtheria.
Одиссей Элитис! Маврокордато! Терсица! Фотос Завеллас! Князь осознавал героику той войны, что греки вели в своих горных редутах и на равнинах, чьи названия вызывали в памяти множество страниц классической истории. Россия тоже вступала с турками в битвы невероятной жестокости. Одно имя Потемкина повергало в ужас все турецкое главнокомандование.
Говорил он с почтением и некоторой hauteur(13), поигрывая кружевными складками своей рубашки.
В этой же самой комнате сидел мой соотечественник-виргинец Джон Рэндольф из Роанука(14), потомок Покахонтас, возможно - в кресле Людовика XV, и альпака его черных брюк выглядела странно на фоне красного дерева и муарового шелка. И Джоэль Барлоу(15) бывал здесь. Я мысленно видел его по-американски угловатого, вне всякого сомнения - в малиновом жилете и желтом шейном платке.
Под гравюрой Франклина стояла копия гудоновского бюста Вольтера(16). Мой взор выхватил Энциклопедию Дидро, который, как уверял меня князь, подчеркивал свою галльское остроумие при московском дворе, шлепая Ее Императорское Величество Екатерину по ляжке; Афоризмы Бэкона; Ricordi Гуиччардини(17); Лаппонию Шеффера(18); любопытный труд Линнея Praeludia Sponsalia Plantarum.