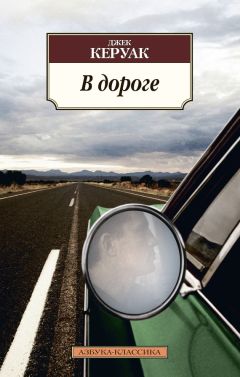Джек Керуак - На дороге
В городке мелькал время от времени тусклый огонек — это шериф со слабым фонариком совершал свой обход, что-то бормоча себе под нос в ночи джунглей. Потом я увидел, как этот огонек, покачиваясь, приближается к нам, и услышал легкие шаги по мягкому песчано-травяному ковру. Подойдя, шериф направил свет фонаря на машину. Я приподнялся и посмотрел на него. Дрожащим, едва ли не жалобным, предельно нежным голосом он произнес: «Dormiendo?» — и показал на лежащего на дороге Дина. Я знал, что это значит «спать».
— Si, dormiendo.
— Bueno, bueno, — тихо сказал он сам себе и, с неохотой и грустью повернув назад, продолжил свой одинокий обход.
В Америке Господь не удосужился сотворить таких чудесных полицейских. Ни тебе подозрительности, ни нервозности, ни хлопот: он оберегал покой спящего города — и дело с концом.
Я снова вытянулся на своем стальном ложе и широко раскинул руки. То ли я лежал под открытым небом, то ли надо мной были ветви деревьев — я понятия не имел, да и не все ли равно? Открыв рот, я несколько раз глубоко вдохнул атмосферу джунглей. Не воздух это был, отнюдь не воздух, а осязаемая, живая эманация деревьев и болот. Я лежал не смыкая глаз. Где-то по ту сторону густой чащобы петухи принялись возвещать утреннюю зарю. Все еще ни воздуха, ни ветерка, ни росы, лишь всегдашняя тяжесть тропика Рака, придавившая всех нас к земле, трепетной частью которой мы были. В небе не появилось ни намека на рассвет. Внезапно я услышал, как во тьме яростно лают собаки, а потом до меня донесся слабый цокот лошадиных копыт. Он становился все отчетливее. Что за безумный ночной всадник явится сейчас передо мной? Наконец моему взору предстало видение: по дороге, прямо на Дина, рысью скакал призрачно-белый дикий конь. За ним скуля гнались собаки. Их мне было не видно, это были старые грязные псы джунглей, но конь был белый как снег и огромный; казалось, он даже фосфоресцирует, и разглядеть его было нетрудно. Я не испытывал страха за Дина. Конь увидел его, промчался у самой его головы, потом, величественный, как корабль, миновал машину, негромко заржал и, донимаемый собаками, проскакал через город, скрывшись в джунглях на другом его краю. И снова я слышал лишь слабый, замирающий в зарослях стук копыт. Собаки угомонились, уселись и принялись облизываться. Что это был за конь? Что за миф или призрак, что за дух? Когда проснулся Дин, я ему все рассказал. Он решил, что мне это приснилось. Однако потом вспомнил, что и сам вроде бы видел во сне белого коня, и тогда я сказал ему, что это был не сон. Потихоньку проснулся и Стэн Шефард. Стоило нам зашевелиться, как мы вновь взмокли от пота. Вокруг все еще была кромешная тьма.
— Пора заводить машину, пусть нас хоть немного продует! — вскричал я. — Я подыхаю от жары.
— И то верно!
Мы с ревом выехали из города и с развевающимися волосами помчались дальше по тому же бешеному шоссе. Быстро рассвело, и в серой дымке по сторонам дороги стали видны сплошные полувысохшие болота с длинными сиротливыми деревьями, клонящимися вниз, к сплетению собственных стелющихся ветвей. Какое-то время мы катили вдоль железной дороги. Впереди показались причудливые очертания антенны радиостанции Сьюдад-Манте — так, словно мы очутились в Небраске. Отыскав бензоколонку, мы наполнили бак, а в это время последние из ночных насекомых джунглей сплошной черной тучей налетели на горящие электрические светильники и, взмахивая крыльями, огромными корчащимися роями попадали к нашим ногам. А крылья у некоторых достигали четырех дюймов в длину, чудовищных размеров стрекозы вполне способны были сожрать птицу, а вдобавок — тысячи гигантских комаров, не говоря уже о безымянных паукообразных всех мастей. В страхе перед ними я принялся приплясывать на тротуаре. В конце концов я укрылся в машине и, забравшись с ногами на сиденье, стал с ужасом глядеть вниз, а земля вокруг наших колес кишела насекомыми.
— Поехали! — взвыл я. Ни Дина, ни Стэна эти страшилища совершенно не смущали. Они преспокойненько выпили по бутылочке апельсинового сока и принялись ногами отпихивать их от радиатора. Майки и брюки у них, как и у меня, пропитались кровью и почернели от тысяч дохлых насекомых. Мы обнюхали нашу одежду.
— А знаете, этот запах мне начинает нравиться, — сказал Стэн. — По крайней мере, я уже не чувствую своего собственного.
— Запах непривычный, но неплохой, — согласился Дин. — Пожалуй, я не сменю майку до самого Мехико, хочу изучить этот запах и хорошенько его запомнить.
И мы с грохотом помчались дальше, подставив сотворенному нами ветерку свои пылающие от жары, одеревенелые лица.
Потом впереди замаячили горы, сплошь зеленые. Одолев этот подъем, мы вновь попадем на огромное центральное плато, откуда прямая дорога в Мехико. В мгновение ока взлетели мы на высоту пяти тысяч футов над уровнем моря и понеслись меж окутанных туманом ущелий, склоны которых возвышались над струящимися далеко внизу желтыми речными потоками. Это была великая река Моктесума. Теперь встречавшиеся на дороге индейцы были похожи на жителей потустороннего мира. Это был народ, замкнувшийся в себе, горные индейцы, отрезанные от всего на свете, кроме Панамериканского шоссе: низкорослые, коренастые смуглые люди со скверными зубами. Многие несли на спине тяжелую поклажу. На крутых склонах гор, за громадными, одетыми в буйные заросли ущельями виднелись клочки возделанной земли. Индейцы карабкались вверх и сползали вниз по этим склонам, обрабатывая посевы. Чтобы все как следует рассмотреть, Дин снизил скорость до пяти миль в час.
— Ого-го! Вот уж не думал, что такое бывает!
На вершине самой высокой горы, не уступавшей ни одной из вершин Скалистых гор, мы увидели банановые деревья. Дин вылез из машины, показал их нам и застыл на месте, почесывая живот. Мы остановились на горном уступе, к краю которого, над самой мировой пропастью, прилепилась крытая соломой лачужка. Солнце сотворило золотистую дымку, которая скрыла от нас оставшуюся на невероятной глубине Моктесуму.
Во дворике перед лачужкой стояла крошечная трехлетняя индианка. Засунув палец в рот, она смотрела на нас большими карими глазами.
— Может, она за всю свою жизнь ни разу не видела, как останавливается машина, — прошептал Дин. — Привет, девочка! Как поживаешь? Мы тебе нравимся?
Девочка в смущении отвернулась и надула губы. Мы говорили между собой, а она вновь принялась разглядывать нас, не вынимая пальца изо рта.
— Вот досада! Совершенно нечего ей подарить! Подумать только — родиться и жить на этом уступе… Всю свою жизнь ничего, кроме этого уступа, не знать. Отец ее обвязывается, наверно, веревкой и ощупью спускается вниз, лазает по пещерам за ананасами да стоит над этой бездной под углом градусов в восемьдесят и рубит сучья да ветки. Она никогда не уедет отсюда, никогда ничего не узнает о внешнем мире. Вот это народ! Воображаю, какой у них должен быть дикий вождь! А в нескольких милях от дороги, вон за тем утесом, люди наверняка еще более дикие и чудные. А как же! Ведь Панамериканское шоссе приносит этому придорожному народу хоть какую-то цивилизацию. Смотрите, какие капли пота у нее на лбу. — Со страдальческой гримасой Дин показал на девочку. — Мы так не потеем, этот пот — маслянистый, он никогда не высохнет, потому что здесь всегда, круглый год жарко, и она не представляет себе, что можно не потеть, она вспотела, когда родилась, и умрет в поту. — Крупные капли пота на лобике девочки не стекали вниз, а застыли там, казалось, навсегда, поблескивая на солнце, словно чистое оливковое масло. — Как же это должно действовать на их души! Как же их глубоко запрятанные тревоги, взгляды и желания должны быть не похожи на наши! — Дин вновь сел за руль и, приоткрыв в благоговейном страхе рот, повел машину со скоростью десять миль в час, стремясь не пропустить на дороге ни одной живой души. Мы взбирались все выше и выше.