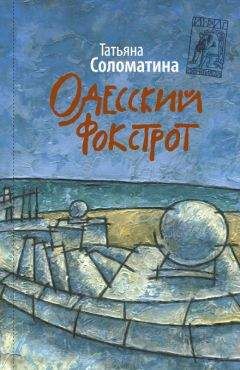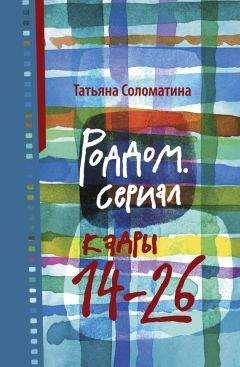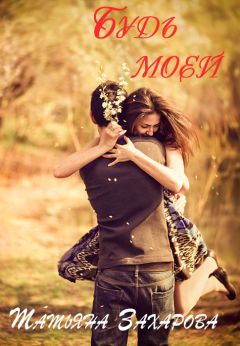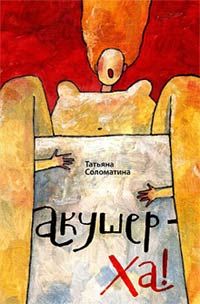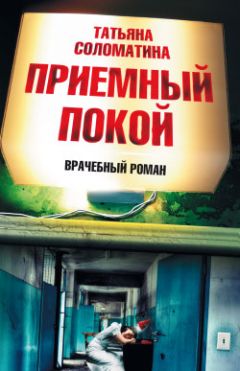Татьяна Соломатина - Коммуна, или Студенческий роман
Полина восстановилась в своих санитарских правах в отделении травматологии железнодорожной больницы и уже скоро-скоро снова стала воспринимать возможность принять полноценный душ на работе как дар божий. А овсяную кашу с кефиром из вёдер пищеблока – куда вкуснее печени трески и чёрной икры. Потому что аппетит вернулся, а килограммы – наоборот – ушли. И потому что жизнь снова стала донельзя подвижной. В том числе – и благодаря расписанию занятий.
Первая пара у студентов четвёртого курса могла быть на Слободке, в ГКБ № 11, бывшей областной. Вторая – в лучшем случае тут же, на Слободке, – в больнице психиатрической или детской областной, или, например – в онкологическом диспансере. От одиннадцатой до психиатрической было всего ничего – метров двести. Да и до детской не так уж обременительно – с километр пешком. И до онкодиспансера – всего три. А если мимо «зоновского» отделения психушки и через кладбище – ещё и срезать можно метров пятьсот. Но это в лучшем.
Если у деканата хватало терпения, тщания и ума составлять расписания, учитывая то нехитрое обстоятельство, что студент – тоже человек. А деканату, чаще всего, вышеперечисленного не хватало. Поэтому первая пара могла быть на Слободке, вторая – на посёлке Котовского, а третья – на Тенистой, затерянной в дебрях Большого Фонтана. Или так: первая – на Малиновского, в десятой ГКБ, вторая – на посёлке Котовского, в новой областной больнице, а третья – на Слободке, где вечером так страшно, что надпочечники от адреналина сводит. Если первая пара была на посёлке Котовского – это было ещё за счастье, хоть и очень далеко. Потому что утром с площади Мартыновского сто семьдесят седьмой автобус отправлялся практически пустой. Гораздо хуже, нежели Полине, приходилось тем студентам, что проживали не в центре города, а в спальных районах – на том же посёлке Котовского, более известного как Поскот. На первые курсы они всегда приезжали помятые, потоптанные, вспотевшие, частенько даже – трагедия всех юных дев – в порванных колготках, а то и чего похуже. Счастьем ходить в институт пешком обладали очень немногие. Так что езде «против основного потока» Полина радовалась. А вот если первая пара была на Слободке… Приходилось тащиться на конечную остановку пятнадцатого трамвая и штурмовать его вместе со всей толпой санитарок, медсестёр, врачей и студентов, стремящихся туда же. Кроме пятнадцатого трамвая на Слободку тащился ещё только старенький кряхтящий автобус, но он отходил от улицы Пастера и студентами был наполнен только в том случае, когда на Слободке случалась вторая и третья пары. Да и то – от института предпочитали на Слободку ходить пешком. И тебе прогулка, точнее: кардиотренировка – вверх-вниз, с горки – под горку. И никаких гематом.
Перерывы между парами, разумеется, были большими – никак не менее часа – с учётом времени на добраться. Но добирались далеко не всегда и далеко не все. Кое-кто ленился, иные – по обстоятельствам.
И после этого безумного метания по городу Полине, да и многим другим, надо было ещё и на работу – пару ночей в неделю плюс выходные. Тому же Примусу, например. И Кроткому, который устроился в реанимацию областной больницы – той самой, на Поскоте. А учитывая, что проживал Вадя в общаге на Малиновского…
Позже, к семестру второго полугодия, какой-то умник догадался ввести новую, более лояльную к студентам, систему – первые пары стали делать сдвоенными – например, утром две пары нервных болезней на Свердлова, а третья – лекция в аудитории инфекционной больницы. Чуть позже была введена и «модульная» система обучения, когда целую неделю студенты посещали лишь одну кафедру и лекции, и практические занятия были по одному и тому же предмету в одном и том же месте. Но это потом… Четвёртый же, пятый и шестой курсы студентки Полины Романовой и её соучеников были нескончаемым праздником хаотичных метаний по городу. И частенько после третьей пары, заканчивающейся к пяти вечера, надо было брать ноги в руки и к двадцати ноль-ноль тащиться на ночное дежурство.
Тому, кто знаком с «медицинским антуражем» лишь по выхолощенным отечественным развлекательным сериалам, где интерны бродят по некой вакуумно-сферической больнице из хирургического отделения в родильное через дерматовенерологическое в уличных ботинках, офисных костюмах и галстуках, поверх которых накинут белый халат, – и близко не представить, каково оно там на самом деле. Те, кто предпочитает сериалы заграничные, где очередной клуниобразный красавчик в зелёной пижаме или хаусоподобный харизматик с брезгливым выражением некрасивого лица спасают, остря (или острят, спасая), тоже весьма и весьма далеки от реалий. Как нынешних, так и конца века двадцатого. Хотя, полагаю, для студентов – настоящих, а не телевизионных – мало что изменилось с тех пор.
Ах, какими уютными и комфортабельными показались нынче Полине раздевалки циклов пропедевтики третьего курса на базе второй ГКБ. При терапии – вход с Пастера – была чем-то похожая на театральную раздевалку. И охраняла её вредная, но добрая бабка, сюда же вешавшая верхнюю одежду посетителей. Да, не очень ловко было, прыгая на одной ножке, надевать моющиеся тапки или снимать шерстяной свитер одной-единственной девушке посреди двадцати мужских рыл. Но на пропедевтике внутренних болезней никто не заставлял полностью переодеваться. И хотя и сидели они на занятиях посреди коридора отделения, лишь изредка допускаясь в клизменные или даже в манипуляционные, но всё равно – всё было по-домашнему. Или вот пропедевтика хирургических болезней – вход с академика Павлова со двора, вниз по лесенке и в неприметную облупленную дверь – тесная каморка, где всё навалом на скамьях, но зато запирается на ключ, ключ – у старосты. В отделение всё равно попадаешь редко, всё больше сидишь в учебном классе и конспектируешь, как невменяемый. Что не запишешь на занятиях – позже дома изволь. Ещё один занимался подготовкой писарей – бесцветный доцент Демидов. Никогда не повышал голос. Вообще никогда. Куда-то надолго пропадал – «приду, проверю!» – выдавая ротапринтные копии схем-последовательностей введения растворов при разнообразных шоках. Никогда не проверял. Все почему-то опасались тихого и никогда не проверяющего ничего доцента – и переписывали как миленькие. Очень все эти «ненужные» конспекты пригодились и на четвёртом, и на пятом, и на шестом курсах. А иным – и много позже, уже в самостоятельной работе. Куда он пропадал? В операционную. Почему студентов не брал? Там интернов достаточно. Студенты пусть пишут. Зелёные ещё, несчастный третий курс. Вон, Полина Романова в обморок шлёпнулась, увидав, как неаккуратная неопытная медсестра фасона «руки из жопы под крюки заточены» катетер в вену устанавливала. А говорит, что в травматологии работает. Вполне вероятно, кстати. Переключение режимов или, например, не поела с утра. И – да! – свитер шерстяной не сняла. Нельзя в отделении в шерстяном свитере, девочка. И даже не потому, что инфекция – ты сюда ничего не принесёшь, а вот на свитере своём – очень даже может быть, что-нибудь унесёшь, – а потому что жарко, жарко. Здесь очень жарко! Это же реанимация гнойной хирургии!.. Ах, где бы был ваш «доктор» Хаус, подсаженные на сериалы барышни всех возрастов, если бы вы были знакомы с Александром Демидовым! Жалкое подобие левой руки ваш английский комик по сравнению с бесцветным, никогда не повышающим голос, настоящим доктором Демидовым…